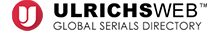Участники заседания
- А.В. Авилова (ИМЭМО РАН)
- Л.Ф. Адилова (Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском простра)
- С. Айвазова (Институт системного программирования РАН)
- Н.В. Андреенкова (Центр сравнительных социальных исследований – ЦЕССИ)
- Н.Ю. Беляева (Высшая школа экономики)
- Ю.Н. Благовещенский (Фонд ИНДЕМ)
- В.Ф. Бородич (МПГУ)
- Л.Н. Вдовиченко (Совет Федерации РФ)
- Д. Войнов (Институт коммуникативных технологий)
- С.Е. Горина (Российская Академия государственой службы)
- И.Е. Дискин (Совет по национальной стратегии)
- О.М. Здравомыслова (Горбачев-фонд)
- Г.Л. Кертман (Фонд "Общественное мнение")
- А.П. Кочетков (МГУ)
- А.И. Липкин ()
- С.А. Магарил (РГГУ)
- М.Ю. Мизулин (Российская Академия государственной службы)
- М.Ю. Мизулин (Высшая школа управления РАГС)
- Т. Мочалов (НИУ-ВШЭ)
- А.И. Музыкантский (Уполномоченный по правам человека в городе Москве)
- О. Осипова (АСИ)
- С.В. Патрушев (Институт сравнительной политологии РАН)
- К.Е. Петров (Международный институт политической экспертизы)
- В.В. Петухов (Институт социологии РАН)
- О.А. Савельев (Аналитический центр Юрия Левады (Левада-центр))
- Г.А. Сатаров (Фонд ИНДЕМ)
- Н.Л. Хананашвили (БФ "ПРОСВЕЩЕНИЕ")
- В.А. Хомяков (Совет по национальной стратегии)
- А.В. Чуриков (Фонд "Общественное мнение")
- В.Л. Шейнис (Институт мировой экономики и международных отношений РАН)
- И.Э. Шкрадюк (Центр охраны дикой природы)
НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПЕРЕМЕН
- ценностные и ситуационные предпосылки возникшего кризиса доверия;
- политические проекции «постматериального сдвига»;
- логика поведения активных социальных групп;
- «протестная публика» как социальный субъект;
- публичная политика на улицах и принятие решений в кабинетах;
- кратко- и среднесрочные сценарии развития ситуации –
эти и смежные вопросы стали предметом обсуждения экспертов. Семинар открылся специально подготовленными выступлениями С.И.Каспэ («Полития», Высшая школа экономики), Н.Ю.Беляевой (Высшая школа экономики, Болонский университет) и Г.Л.Кертмана (Фонд «Общественное мнение»).
NB!
Публикуемый отчет представляет собой сжатое изложение основных выступлений, прозвучавших в ходе семинара. Опущены повторы, длинноты, уклонения от темы, чрезмерно экспрессивная лексика. Отчет не является аутентичной стенограммой, но большинство прозвучавших тезисов, гипотез и оценок нашло в нем отражение.
С.Каспэ:
Моя интерпретация произошедших событий не оригинальна, она в разных формулировках предлагалась уже неоднократно. Квинтэссенция их – «бунт сытых». Или, чуть более длинно – разрыв «путинского» социального контракта общества и власти, который не раз обсуждался на нашем семинаре и определялся как «политическая апатия в обмен на материальный достаток и невмешательство в частную жизнь». Однако эта интерпретация, как мне кажется, не додумана до конца – из нее вытекают любопытные следствия.
Я думаю, что речь идет о хорошо известном явлении, описанном Рональдом Инглхартом, – о «постматериальном сдвиге», post-material shift. В этой аудитории нет смысла подробно пересказывать его многочисленные работы, сделанные на могучей эмпирической базе. Постматериальный сдвиг, коротко говоря, представляет собой процесс, в ходе и результате которого доминирующей мотивацией социального действия становятся не «ценности выживания», а «ценности самовыражения». Не то чтобы выживание становится вовсе незначимым и люди превращаются в аскетичных камикадзе – напротив, оно начинает восприниматься как гарантированное. Отсюда возникает чувство «экзистенциальной безопасности», в условиях которого делается можно и «о душе подумать». В этом смысле прав был Брехт: ведь в его знаменитых словах «сначала хлеб, а нравственность потом» можно видеть не только гимн цинизму, но и трезвый и грустный взгляд на человеческую природу. Думать о нравственности на пустой желудок способны единицы; люди en masse сперва хотели бы покушать.
Чем хороша эта гипотеза? Во-первых, она гораздо тоньше той восходящей к Сеймуру Липсету традиции, которая связывает уровень благосостояния и уровень демократии линейной зависимостью. Порог благосостояния, за которым следует ожидать появления и консолидации демократии, неоднократно пересчитывался; сейчас в качестве такового чаще всего называют среднедушевой ВВП порядка $ 10000 (по паритету покупательной способности). Россия этот порог преодолела около 2003 г. и сейчас приближается к $ 16000. А с демократией дело обстоит по-прежнему как-то не очень, если не становится хуже. Из этого обстоятельства нередко делали выводы об уникальности России, о ее вечно рабской душе и сущности, над которой не властны никакие закономерности, верные для «цивилизованного мира». Между тем Инглхарт писал о зависимости вовсе не линейной (уже хотя бы потому, что «экзистенциальная» безопасность дается совсем не только толщиной кошелька). Постматериальный сдвиг – это, с одной стороны, длительный, постепенный процесс. «Культуры не меняются вдруг» (Инглхарт). Человек должен не только достичь определенного уровня благосостояния и безопасности, но и в течение некоторого времени им насладиться, просто поверить в него. Я уже много лет отвечал на вопросы своих студентов о перспективах оживления массовой политической активности, становления реальной, а не симулятивной партийности и т.п. одной и той же фразой: «Чтобы все это стало возможно, народ сперва должен отпотребляться за весь ХХ век. За все то, что он, народ, в этом веке пережил и чего был лишен». И я, кстати, думал, что на это потребуется гораздо больше времени. Но ведь постматериальный сдвиг – это, с другой стороны, еще и фазовый переход в этом длительном процессе, переход, момент которого очень трудно предсказать заранее. У меня перед глазами живой образ такого перехода, думаю, многим тут знакомый – последние восемь месяцев я каждый день кормлю младенца из бутылочки. И вот пока он блаженно сосет, закатив глаза, кажется, что так будет продолжаться вечно. А потом брык – и все, у него совершенно другие заботы и устремления. Как у братьев Стругацких – происходит переход от «матпотребностей» к «духпотребностям». Вот он, как мне кажется, и случился – и оказался для всех, в том числе для нас с вами, большой неожиданностью.
Сделаю ремарку: между прочим, постматериальный сдвиг – процесс не только длительный, но и неравномерный. Естественно, он с разной скоростью продвигается в разных слоях, стратах и группах, в том числе и в чисто географическом отношении. Но единожды начавшись, он вызывает мощную миметическую реакцию. Кстати, ровно об этом говорилось в мартовском докладе Белановского-Дмитриева, от которого тогда отмахнулись, а сейчас не вспоминают – и совершенно напрасно. А там, между прочим, было написано вот что: «Крупнейшие города как центры информационного влияния будут активно распространять оппозиционные настроения по всей территории страны, ускоряя рост оппозиционных настроений в провинции». Ну, и еще много важного, о чем я тоже напомню.
Во-вторых, гипотеза о постматериальном сдвиге позволяет по-новому взглянуть на ту известную точку зрения, что основным содержательным трендом перемен в массовом сознании в последние два десятилетия была его, сознания, рационализация. Главным адептом и пропагандистом этого взгляда на нашем семинаре всегда был Иосиф Дискин. Так вот, похоже, что коллега Дискин неправ. Похоже, дело обстоит не по Дискину и даже не по Веберу, для которого целерациональное поведение и впрямь венчало пирамиду типов социального действия (что, впрочем, в отличие от коллеги Дискина, не внушало Веберу особой радости). Человеческое поведение делается рациональным тогда, когда решаются вопросы выживания. Именно рациональным, изощренно рациональным было поведение советских людей, в тогдашних иррациональных условиях добывавших колбасу, меховые шапки и туалетную бумагу. А уж предельно рациональным человеческое поведение делается в ситуациях экстремальных, в условиях Голодомора или блокады Ленинграда. Если иначе не выжить, то рационально есть человечину. А вот те, кто не ел человечину, у кого еще сохранялись какие-то сверхрациональные ценности, те и не выживали. Ценностно мотивированное поведение не отменяет рациональность, но надстраивается над ней и ее корректирует. И сейчас мы имеем дело с восхождением именно ценностно-рационального, а вовсе не целерационального действия – в чем и состоит постматериальный сдвиг.
В-третьих, отсюда же вытекает ответ на вопрос об обратимости перемен. Да, постматериальный сдвиг обратим. И обратить его вспять может возврат в повестку дня проблемы и ценностей выживания. «Экономический спад, гражданские беспорядки или война заставят людей делать упор на ценностях выживания» (Инглхарт). Мы привыкли связывать стабильность режима и социального климата в целом с ценами на нефть – сколько раз была повторена та мантра, что пока эти цены высоки, в стране ничего не изменится. И даже Шевчук пропел: «Когда закончится нефть, наш президент умрет». Все ровно наоборот, и скорее прав не Шевчук, а Путин, заявивший, что Болотная – это плод и результат его деятельности, его режима. Остается, конечно, вопрос, в какой степени происходившее в нулевые годы было результатом деятельности лично Путина, а в какой – неподконтрольных ему и неуправляемых им процессов, но смысл тезиса (моего, а не путинского) от того не сильно меняется. Происходящее есть результат непривычно длительного для России периода роста благосостояния. Конечно, любое шоковое ухудшение ситуации вызовет бурную негативную реакцию. Степень недовольства и даже, возможно, активности недовольных в соответствии с «законом Токвиля« резко возрастет – резко, но ненадолго, вот в чем штука! Потому что придется заниматься совершенно другими вещами, и те самые «активные и креативные группы» снова вернутся от самореализации, от активности и креативности к выживанию. Тем более что навыки не забыты. И напротив – чем дольше проблемы выживания будут восприниматься как в целом решенные, тем больше шансов на то, что наметившаяся тенденция будет укрепляться и диффундировать по стране.
В-четвертых, гипотеза о постматериальном сдвиге позволяет ответить на вопрос об адекватности реакции властей на бурный декабрь. Реакция-то, бесспорно, серьезная – на наших глазах зарезано несколько «священных коров» режима, сделано то, что еще недавно клялись не делать никогда и ни за что. Однако, боюсь, реакция неадекватная. Потому что основные претензии протестантов к режиму и к той социальной реальности, которая ими считается этим режимом сформированной, насколько я могу судить, располагаются в плоскости этической, эстетической и даже экзистенциальной. Основная претензия – не «верните народу выборы, гады» и тем более не снижение барьера или упрощение процедуры регистрации партий. И даже не коррупция! То есть за кипучей деятельностью Навального наблюдать, конечно, интересно, она может даже вызывать сочувствие – но не надо иллюзий, успешные люди, вышедшие на Болотную и проспект Сахарова, успешны именно потому, что интегрированы в реальную российскую экономику. То есть хорошо разбираются в оттенках черного, серого и белого нала и со всеми ними имели дело. Именно поэтому они считают проблемы своего выживания решенными, а экзистенциальную безопасность – обеспеченной. Основная их претензия другая – «перестаньте над нами издеваться». «Перестаньте врать, кривляться, фотошопить в новостях, вылавливать амфоры и, главное, считать нас идиотами». Ну, или быдлом. Между прочим, самое важное – последнее. Как следует из того же доклада ЦСР, эта претензия, вот в этой самой формулировке, распространена далеко за пределами элитных столичных групп, высказывается на всех фокус-группах по всей стране буквально кем угодно, хоть инженерами, хоть пенсионерами, а значит, формирует значительный резерв роста протестной активности. И то же самое, между прочим, говорят и региональные политические менеджеры, находящиеся в непосредственном контакте с социальной реальностью, – во всех слоях растет глухое, неартикулированное, не имеющее никакой позитивной программы, но от того не менее, а еще более серьезное недовольство. «Надоело». Людям надоело жить в стране, в которой жить противно, это детское слово – самое точное; и люди хотят, чтобы было не противно, чтобы жизнь в этой стране не оскорбляла ни этическое, ни эстетическое чувство. Люди хотят избавиться от вполне экзистенциального чувства тошноты – прямо по Сартру. А институциональные реформы – слабый ответ на экзистенциальные вызовы, они просто не про то. И это на самом деле плохо, потому что резко сужает пространство возможного компромисса и спектр некатастрофических сценариев. Если такого рода претензии как-то и фокусируются, наводятся на какой-то объект, то этот объект – не институты, не законы и даже не Конституция. Такая фокусировка возможна изредка, частично и не решает фундаментальных проблем, она играет чисто тактическую роль – как когдатошняя фокусировка на 6-й статье конституции СССР. В 1990 г. она была отменена, священная корова была зарезана – и что, разве это спасло советскую власть? Единственный объект, на котором этические, эстетические и экзистенциальные претензии фокусируются – лица (они же рыла, морды, физиономии и т.п.). То есть те части тела власти, которые видно невооруженным глазом – и от которых, собственно, и тошнит. И вот как может власть удовлетворить физиогномические претензии к самой себе, решительно непонятно. Достаточно ли будет предъявления ровно одной новой физиономии – по имени Прохоров? Ну, еще физиономия Грызлова выведена из поля зрения. Я думаю, что протестанты этим не удовлетворятся. А стало быть, вероятнее всего, конфликт между пережившей постматериальный сдвиг частью общества и властью, легитимирующей себя исключительно ценностями выживания (о чем говорят ее бесконечные напоминания о том, как трудно нам было выжить после 1990-х гг.), будет углубляться.
В-пятых, гипотеза о постматериальном сдвиге хороша еще и тем, что она некоторым образом эмпирически подтверждается. Вы знаете, что подготовка к митингам в значительной степени происходит в социальных сетях. И вот некий человек по имени Глеб Суворов из компании по поиску и обработке данных BasiliskLab сделал очень простую штуку – скачал и проанализировал более 20 000 профилей пользователей, входивших в «Болотные» тематические группы сервисов «ВКонтакте» и Facebook. Это, конечно, нерепрезентативно, это вообще не социология – хотя бы потому, что так просматривается прежде всего молодежь, а более старшие возрастные когорты, которые тоже были на Болотной, в этом информационном массиве почти не представлены («подавляющая часть митинговавших попадает в границы от 18 до 28, пик приходится на 23-24 года»). Но это, кстати, тоже любопытно – как замечает Суворов, «66% протестовавших “против Путина” родились после начала перестройки. Какие там воспоминания о “продуктах питания по талонам”, “криминальных 90-х”, выборах Ельцина в 96-м? Они еще учились в школе, а Путин уже был президентом». Вот потому-то они и не испытывают никакой благодарности к режиму за то, что он обеспечил им выживание и спас от «лихих 90-х»! И обида режима на этот односторонний и, с точки зрения режима, ничем не спровоцированный разрыв социального контракта совершенно понятна: «Мы для вас так старались, а вы нам отплачиваете такой неблагодарностью!». Тем не менее материал-то есть, полностью он доступен на сайте BasiliskLab, и наиболее интересными в нем мне показались сведения о том, как «болотники» заполняли в своих профилях пункт «главное в жизни» – причем понятно, что они делали это независимо и задолго до того, как заявить о своем желании отправиться на митинг. А сведения эти таковы:
развлечения и отдых – меньше 5%;
карьера и деньги – меньше 5%;
наука и исследования – меньше 5%;
слава и влияние – 6%;
красота и искусство – 7%;
семья и дети – 19%;
совершенствование мира – 22%;
саморазвитие – 35%.
Это и есть «ценности самовыражения». Это и есть постматериальный сдвиг. Добро пожаловать в новый мир.
Н.Беляева:
Вернулась ли публичная политика? В начале 90-х были многотысячные митинги – это бесспорно была публичная политика. Потом она пропала, и в тысячах работ объяснялось, почему. И все ждали, когда же она вернется, ожидая самого факта многотысячных митингов. Вот факт случился, и мне теперь постоянно задают вопрос: так вернулась публичная политика или нет? Я должна сказать: «Нет». Сейчас попытаюсь объяснить, почему. Потому что не сводится публичная политика к количеству людей на улице. Если продолжать начатую коллегой Каспэ линию обращения к научным авторитетам, то в американской традиции публичной политикой называется то, что делает (или не делает) правительство. Понятно, что наше правительство что-то такое начало делать, какие-то сдвиги произошли из-за митингов, но установить жесткую связь между тем, что делает правительство, и тем, чего требует протестная публика, нельзя. Вторая интерпретация публичной политики больше связана с европейской традицией – негосударственные акторы вместе с государственными участвуют в выработке повестки дня и решений по социально значимым вопросам. Ну никак не можем мы сказать, что это происходит. Повестка дня меняется мало. Мы говорим, что выборы – это такой вид общественных благ, public goods: но результаты выборов не пересмотрены, власть не отреагировала на главное требование, не созданы даже институции, которые были бы способны учитывать мнение протестной публики. Правительство как-то реагирует, но оно по-прежнему само по себе, а протестная публика сама по себе. Наконец, в глобальной международной традиции делается упор на то, что публичная политика есть выработка горизонтальных управленческих связей, которые позволяют людям вместе работать над общими проблемами. К этому определению мы ближе всего: собрались люди, которые хотят вместе сделать так, чтобы в стране было не противно жить. Вот эта традиция collective problem solving завоевывает популярность. Значительное количество людей одинаково понимает общественные проблемы и объединяется, чтобы их решать. Но чтобы решать проблемы, нужно сформировать их перечень. Создать такие институции и политические силы, которые будут работать над этой повесткой дня, смогут включиться в систему принятия решений. Однако покамест всем ясно, что в России есть политическая система, которая работает по своим правилам, а есть люди, которых эта система не устраивает, они живут, действуют, мыслят, существуют и выстраивают свои гражданские и политические связи вне ее. Не только несистемная оппозиция, но и значительная часть населения живет вообще вне этой политической системы. А публичная политика – это все-таки системные решения, и их пока нет.
Мне кажется, что post-material shift затронул небольшую часть населения, меньшинство. Понимая же, что речь идет о меньшинстве, необходимо искать концепт, более адекватно описывающий события, чем «общество». Коллега Каспэ говорил о разрыве «путинского» социального контракта власти и общества. Но разве «протестная публика» – это синоним общества? Общество ли вышло на улицу? По-моему, нет.
Сам феномен протестной публики есть серьезная вещь, которую нужно отдельно изучать. Есть, конечно, соблазн заявить: мы так долго ждали, пока созреет гражданское общество, вот оно и вышло на Болотную площадь. Однако недавнее исследование Высшей школы экономики, сделанное под руководством Л.Якобсона, показывает противоположное: гражданское общество искренне радуется модернизирующейся России, создается много общественных объединений, но они в целом удовлетворены ситуацией, протестные настроения у них крайне слабые. Вывод такой: гражданское общество всем довольно и никуда не выходит. Но кто же тогда вышел на площадь? Я утверждаю, что гражданское общество точно никуда не вышло, оно сидит дома и смотрит телевизор: ждет, как развернется ситуация.
Когда Медведев или Путин встречаются со студентами, те говорят об общежитиях, о стипендиях – не о свободах. Постматериальный сдвиг не везде наступил! Когда старушка просит у Путина провести газ, она понимает, что другие – избранные на «честных выборах» газ ей вряд ли проведут. Значительное количество людей связывает перспективу решения своих материальных проблем исключительно с действующей системой.
Это привело меня к некоторой аналитической схеме, которой я хотела бы поделиться. Как отличить новый субъект под названием «публика» от гражданского общества?
1) Пространство существования. Гражданское общество сидит дома, публика выходит на открытую площадку, это непременно связано с риском. Особенность открытой площадки в том, что каждый выступает от своего имени, он виден и в равной мере подвержен критике, риску за то, что он делает публично.
2) Ключевые характеристики консолидации. О гражданском обществе мы узнаем по каким-то его действиям, конечно, но есть и другая составляющая этого феномена – публичное мнение, общественное сознание и общественное отношение. И все это задается преимущественно извне. А для публики характерна собственная способность к артикуляции: на Болотной каждый был со своим плакатом. Это говорит о полноценной субъектности человека: у него есть единство сознания, воли и действия. Все аналитики отмечали, что это не толпа, это не кем-то управляемая безликая масса, это индивидуальное и одновременно коллективное действие. Особенность публичного действия – коллективный ответ на публичный вызов.
3) Способ реакции на вызов. В критической ситуации основной ответ гражданских организаций на вызов – спрятаться. Если они, например, узнают, что какое-то мероприятие проводится на деньги Государственного департамента США, то они разворачиваются и уходят. При малейшем риске гражданское общество лезет под стол, причем я говорю сейчас о вполне реальных, настоящих организациях – союзах инвалидов и т.п. Публика же идет на рискованное поведение. Я не говорю, что это хорошо или плохо, это надо осмыслить. И сейчас субъектом становится именно публика. Не может быть политической организации без публики, но публика очень подвижная штука, ее надо удерживать, нужны реальные неискаженные смыслы, а это сложно. Публике надо предложить тот формат политического участия, которые позволит ей включиться в политическую систему. Вот тогда и можно будет говорить о публичной политике.
Значит ли это, что митинги никак не влияют на решения в кабинетах? Нет, конечно, влияют. Как связаны требования, звучащие на митингах, и решения, принимаемые в системных политических институтах? Прямой связи, конечно, нет, и на нее даже не стоит рассчитывать. Но есть громадное влияние на среду; ведь каждое политическое решение принимается в определенной политической среде. Каждый политический актор интерпретирует события в свою пользу. Имеет значение то, какая интерпретация будет навязана общественному сознанию. Публика – очень сильный инструмент публичной политики, но и очень опасный, она легко перевербовывается. Все акторы системной политики сейчас будут бороться за эту публику и вербовать ее, и результатом этой борьбы и определится характер нашей публичной политики.
Г.Кертман:
Я хотел бы для начала процитировать присутствующего здесь коллегу Петухова: формирующийся у нас на глазах миф о креативном классе, осуществляющем революцию, настолько же далек от реальности, насколько далек от нее миф о среднем классе как основе путинской стабильности. Абсолютно точно сказано. Никакой социальной, классовой субъектности найти за этими протестами невозможно. Мне кажется, что происходящее точнее называть не революцией, а кризисом доверия. То, что сейчас происходит, есть проявление кризиса доверия, который гораздо шире событий на Болотной и проспекте Сахарова. Партия власти потерпела электоральную неудачу, потеряла миллионы голосов, и это не миллионы голосов сытых. У нас не так много сытых. Кризис доверия проявился еще в декабре. Сама идея постматериального сдвига мне кажется очень убедительной, но с одной оговоркой: я бы не очень доверял высказываниям в профилях, что главным приоритетом является «совершенствование мира» и т.д. Это все так называемые «социально одобряемые» ответы. Образ жизни этого слоя, очевидно, отличается от основной массы населения: все они бывают за границей, все они пользуются иными источниками информации, у них иной когнитивный потенциал. Поэтому кризис доверия в этой среде проявился иначе, не так, как он проявляется в других социальных слоях.
Почему кризис доверия возник и так быстро развивается? Для того, чтобы это понять, нужно вернуться к тому контракту между властью и народом, который сейчас подвергается сомнению и пересмотру. Вспомним, на чем этот контракт был основан изначально: на рубеже нулевых появился Путин, он был воспринят как представитель народа, случайно и внезапно попавший во власть, как бы «агент народа» в чуждой и враждебной сфере власти. Метафора «Штирлиц» вовсю ходила по фокус-группам. Ему можно было вообще ничего не говорить, а только изредка намекать: « я такой же, как вы». И Путину долго прощалась непроговоренность целей и задач и т.д., потому что существовали представления о том, что этот человек не может сказать всего, что он хочет, потому что его «съедят», у него есть определенные обязательства и т.д.
И вот Путин приходит во власть – равноудаляется от двух проклятых прошлых, от советского и от прошлого 90-х. И это позволяет ему быть неидеологичным абсолютно. Он постоянно из-за спин бюрократии подмигивает народу, говоря на народном языке, и при этом начинаются реальные сдвиги, стабилизация. Вот так исторически возник контракт. Однако время идет: с одной стороны, появились поколения, для которых дистанцирование от 90-х уже не имеет никакого значения, с другой стороны – те пенсионеры, которым режим Путина стал после периода невыплат и задержек платить пенсии вовремя, вымирают, а следующая генерация пенсионеров просто всегда получала пенсию вовремя. Против бесконечной пролонгации этого контракта работает фактор времени. Исчерпанность контракта ощущалась уже в 2008 г., но тогда все прошло гладко, хотя элементы кризиса доверия были и тогда. В последние же годы власть серией чрезвычайно неуклюжих действий сама спровоцировала разрыв контракта, накопленный потенциал реализовался. Решающую роль тут, на мой взгляд, сыграла борьба с коррупцией: власть сама признала проблему, и все ссылки на то, что у Путина какими-то там договоренностями связаны руки, перестали работать – прошло 10 лет! В обществе сформировался легалистский запрос, и популярность клише ПЖиВ связана именно с этим. тут, правда, есть один любопытный момент: в этой логике власть имеет право на спецоперации, и тогда формальная законность никого не волнует, за исключением случаев, когда спецоперация нарушает права граждан. Но за вычетом неоспоримых спецопераций легалистский запрос предъявляется.
Кроме того, была допущена ошибка самопозиционирования. Путин всегда был над схваткой, вне политики – не участвовал в дебатах, политической рекламе. По мере же того, как Путин стал участвовать в политических акциях, превращаться в публичного политика, это стало восприниматься как то, что Путин держит народ за быдло, так как все вообще политики держат народ за быдло. Публичный политик в логике массового сознания – жулик. А Путин как раз и стал публичным политиком.
Путинский контракт был основан на сакрализации конкретного человека и его ближайшего окружения. Учитывая традиционный механизм сакрализации власти и конкретные обстоятельства рубежа 90-х и нулевых, эта сакрализация состоялась. Власть стала ее заложником. Десакрализация автоматически оборачивается дестабилизацией. Для участников митингов власть уже не сакральна. И что будет к следующим выборам, предсказать совершенно невозможно.
За последнее время ценностных сдвигов, которые были бы уловлены социологией, отмечено немного: ценности поменялись не так уж сильно. Но вот что зафиксировано точно: резко снизилась ценность силы власти, зато столь же резко возросла ценность равенства людей перед законом, правового равенства. Это вряд ли учитывается теорией постматериального сдвига, но примыкает к нему довольно близко.
Г.Сатаров:
У меня по одному вопросу к каждому докладчику. К коллеге Каспэ: постматериальный сдвиг возникает, когда обеспечены благосостояние и безопасность. Но в России безопасность же, совершенно очевидно, никому не обеспечена? К коллеге Беляевой: молодежное движение «Наши» относится к гражданскому обществу или нет? К коллеге Кертману: я не увидел противоречия между наличием социальной субъектности у тех, кто выходит на площадь, и констатацией кризиса доверия. Как гипотеза о кризисе доверия опровергает наличие гражданской протестной субъектности?
С.Каспэ:
Видимо, речь идет скорее о безопасности как самоощущении, а не объективном факте. Люди в башнях-близнецах 11 сентября 2001 г., скорее всего, были уверены в собственной экзистенциальной безопасности, что не помешало их гибели. Думаю, что у нас дело обстоит сходным образом – да, мы все читали разные кошмарные истории о произволе и насилии, но в основном все-таки исходим из того, что лично нас эти угрозы вряд ли коснутся.
Реплика:
И напрасно!
С.Каспэ:
Безусловно!
Н.Беляева:
«Наши», конечно, не являются организацией гражданского общества. Есть три признака гражданской организации: 1) самоорганизация, 2) самоуправление, 3) самодостаточность. «Наши» не соответствуют ни одному из этих признаков.
Г.Кертман:
Формирование социальной субъектности – это поиск общего интереса, общей потребности. В случае же протестной публики речь, как мне кажется, идет о другом – слишком специфичен этот слой и те ресурсы, которыми он располагает.
Ю.Благовещенский:
Где грань и разница между протестом публики и молодежным бунтом?
Н.Беляева:
Очень много молодых лиц на публичных митингах, действительно. Но это не означает, что молодежь в целом готова к солидарному публичному действию. Молодежь очень разная, кто-то и за Путина голосует, в том числе и у нас в Вышке, которую принято считать оплотом либерализма: они хотят нормальной карьеры.
В.Шейнис:
Совершенно очевидно, что наряду с долговременными процессами взлет протестной активности был связан с конкретными событиями. Некоторые такие события можно было предвидеть — 4 февраля, 4 марта… Не будет ли после марта спада, возвращения в прежнюю колею? Мне интересна ваша экспертная оценка.
С.Каспэ:
Глядя в потолок и высасывая экспертную оценку из пальца, могу предположить, что вероятность возвращения в прежнюю колею существенно ниже половины. Если не начнет реализовываться катастрофический сценарий, то изменения необратимы.
Н.Беляева:
От чего зависит накал протестной активности? От двух вещей: от внешних вызовов и самоконсолидации. Думаю, что и то, и другое будет только нарастать.
Г.Кертман:
Скорое возвращение в колею маловероятно. Будет усиливаться государственная пропаганда, будут нарастать конспирологические антизападные мотивы. Власть решит, что для многомиллионного электората нужны слова, а для протестного меньшинства дела – и ошибется.
В.Хомяков:
Правильно ли я понял, что в конце 80-х – начале 90-х люди выходили на площадь за колбасой и сигаретами, а сейчас вот за нематериальными ценностями?
С.Каспэ:
Хороший, трудный вопрос. Возможно, тогдашние события действительно стоит рассматривать как первую волну постматериального сдвига. Кстати, ведь те объекты, о которых Вы говорите – колбаса, джинсы и т.п. – тогда были не просто материальными объектами, они имели сверхценностный статус, статус фетишей.
О.Вите:
Произносилась такая формула: «разрыв социального контракта разорван». Простите, у кого именно с кем именно был контракт, и кто и как его разорвал?
С.Каспэ:
Контракт – это, конечно, метафора. Разумеется, никакого общего контракта никто не подписывал, он сплетался из огромного количества частных и коллективных контрактов и договоренностей, в том числе молчаливых. Ваш вопрос – программа целого исследования. Кто и как его разорвал? Думаю, что понять это можно будет только post factum.
Л.Вдовиченко:
Возможны ли переговоры между властью и протестной публикой?
С.Каспэ:
Переговоры в прямом смысле слова невозможны, так как у нас нет онтологически равных друг другу и консолидированных сторон переговорного процесса. Поэтому не может быть так, как было, например, в Польше – с одной стороны ЦК ПОРП, с другой «Солидарность» и все всё друг про друга понимают. У нас возможны элементы такого процесса – всяческие неформальные деловые завтраки, обеды и ужины, и они, как я понимаю, вовсю происходят.
Н.Беляева:
Переговоры могут быть и неформальными, это снижает конфронтацию и помогает сформулировать повестку дня, в частности, лучше артикулировать сам предмет протеста. Нужно как можно больше переговоров – всех со всеми.
Г.Кертман:
Будет обмен разнообразными сигналами, но власть ни за что не станет интерпретировать происходящее именно как переговоры.
С.Магарил:
Каковы перспективы? Насколько участники протестов способны включиться в реальный политический процесс?
С.Каспэ:
Разрази меня гром, если я понял вопрос. Все возможно ровно в той мере, в какой оно происходит.
Н.Беляева:
Думаю, что включение будет нарастать. Изменения в сознании произошли, и они необратимы.
Г.Кертман:
Некоторые отдельные группы из протестной среды к такому включению готовы, но подавляющее большинство – конечно, нет.
И.Дискин:
Не случайно, что начался разговор о социальной теории. Из-за чего? Нам явно не хватает каузальности и предсказуемости ситуации. А для нашей социальной науки естественным является привлечение какой-то западной теоретической конструкции, которая кажется приемлемой и подходящей к случаю. Потому что состояние нашей собственной социальной науки таково, что на нее опираться трудно. Но обычно пропускается очень важный – момент спецификации западной конструкции к нашей реальности. Я даже готов принять исходную концепцию о постматериальном сдвиге, но что в ней является для нас специфичным?
А то, что у нас радикально иная ценностная регуляция. У нас ценности как таковые менее влиятельны, чем на Западе. Значимость идеологий резко падает.
Именно разрыв между ценностями и интересами блокирует возможность выстраивания внятных целей протеста. Рационализация протеста – вот фундаментальная проблема. Сегодня актуальная повестка дня – выстраивание возможностей рационализации для качественно изменившейся социальной базы.
В стране существенно повысилась роль частного сектора, для которого проблема правого регулирования является вопросом жизненной необходимости. Я думаю, что это и есть та мощная социальная сила, которая может придать эмоциональным и ценностным переживаниям совсем другой потенциал.
И.Шкрадюк:
Не стоит противопоставлять публику и гражданское общество. На публичный факт надо реагировать, поэтому гражданское общество и не пускают в публичное поле.
Любое заявление публичных целей сопровождается репутационными потерями. Публичный политик – это по определению агент того или иного социального субъекта. В данном случае субъект – публика. И если публика в Фейсбуке проголосует драться с ОМОНом, то публичный деятель должен драться с ОМОНом.
С.Патрушев:
Одна из базовых проблем нашего социума – неспособность формировать социальные порядки. Я не буду оригинален, если скажу, что прежде всего у нас должен быть сформирован моральный порядок. Люди требуют честности! Честность –это моральный принцип. Происходит выход моральности на поверхность. И эти моральные требования будут иметь колоссальные политические последствия.
В России постепенно появляются граждане, но у них пока нет субъектности. Им нужны основания для консолидации, нужны лозунги, и я хотел бы предложить некоторую модификацию классической триады: Свобода, Равенство, Солидарность! Это принципы вместе и моральные, и гражданские. Если они будут приняты, мы окажемся в другой фазе исторического развития.
В.Петухов:
Был ли социальный контракт общества и власти? Да, был. У людей появилась частная жизнь, люди поверили, что они могут заниматься своими делами, строить свою жизнь так, как они считают необходимым – а где-то рядом будет некое подобие власти, которая станет осуществлять вмененные ей функции.
На мой взгляд, контракт разорвался после пожаров 2010 г. Произошла целая череда событий, которая подвела население к мысли, что власть неспособна исполнять даже те немногие функции, исполнения которых граждане от нее ожидали. Более того, в каком-то смысле власть пытается переложить эти свои функции на граждан, а когда те сопротивляются, власть еще и обвиняет их в патернализме – мол, от нее слишком многого хотят.
Да, есть некоторая зависимость между экономической основой и развитием демократии. Но есть и обратная зависимость. Россияне еще до того, как достичь того уровня благосостояния, при котором определенная часть общества захотела демократии, уже надеялись, что это произойдет. Стоит обратить внимание на соотношение демократии и той версии капитализма, которую построили в России. Прежде всего в плане нравов. Отошлю к последней статье Бориса Капустина в РЖ. Он прямо и аргументированно говорит: да, обычно капитализм создает демократию, но российский капитализм, напротив, развитие демократии тормозит.
Н.Хананашвили:
У меня такое ощущение, что для нынешней молодежи путинский социальный контракт – ничего не значащая бумажка. Они его не подписывали, и соблюдать его не согласны. Вот они и начинают выходить на улицы и площади, происходит быстрая консолидация протестующих субъектов.
Напрасно мы называем властную волну реакции изящной: нет, она более чем тупая. Сегодня власть демонстрирует реакцию позавчерашних мозгов. Власть реагирует имитацией, когда необходима честность.
Гражданское общество не сидит дома, но когда оно выходит на площадь, его тут же подменяют пиар-лица вроде Ксюши Собчак. Нам необходимы переговоры, но культуры переговоров у нас нет.
С.Каспэ:
Я сейчас сделаю то, что еще недавно не сделал бы ни за какие коврижки и не поверил бы, если бы мне кто-нибудь сказал, что я это сделаю. Я призываю к серьезному – в некотором отношении – восприятию Ксении Собчак. Прочтите ее недавнее интервью New Times. Понимаете, она, в отличие от нас всех, просто-напросто знакома с Путиным с детства. Она знает, как он устроен, знает, как он думает, что он будет делать, а что не будет. Знает, а не гадает. И вот это заслуживает серьезного внимания.
Н.Андреенкова:
Хочу ознакомить вас с результатами опроса ЦЕССИ, проведенного 12-29 декабря 2011 г. Мы задали простой вопрос: поддерживают ли люди митинги, протестные акции и т.д.? Результаты: 15% поддерживают и хотели бы в них участвовать. Еще 29% поддерживают, но пока участвовать не готовы. 10% затруднились ответить. Выборка – общероссийская, репрезентативная, специально подчеркиваю, что не только Москва. То есть отвечали люди, которые черпают информацию в основном из федеральных телеканалов. В наших исследованиях такое обнаруживается первый раз. Это не протестное уже движение, а социальное.
В.Хомяков:
Политика стала интереснее. Есть известное сходство с началом 90-х, только тогда людей интересовали личности: Ельцин, Попов, Собчак и т.д. Именно личности обеспечивали количество участников митингов, люди шли за правдой – узнать, что происходит, что Ельцин скажет, что Попов скажет… Сейчас люди идут не на лидеров смотреть, а участвовать непосредственно.
Условия для протеста складывались давно, а власть все продолжала (и продолжает) вести себя неадекватно. Произойдет ли структуризация того, что мы называем протестным движением? Все зависит от одного – появятся ли новые лидеры.
Г.Сатаров:
Мы рано начали ставить диагноз – до того, как разобрались в анамнезе. Проблема безопасности не сводится к субъективным ощущениям, она объективна, иначе не было бы такого бегства из страны. Так что до постматериального сдвига по Инглхарту в России дело еще не дошло.
По поводу рациональности. Я вообще-то очень не люблю концепцию рациональности; например, теория заговоров – ее прямое следствие. Мы рационально пытаемся обосновать хаос. Нас приучили к этому. Некоторые концепции говорят, что сама мораль – проявление долгосрочной рациональности. Эффект социального пробуждения объясняется не сколько ценностями, сколько моральными эффектами, то есть долгосрочной рациональностью. Социальный контракт – это чистый миф. Столь же бессмысленно говорить о контракте между насильником и жертвой, террористами и заложниками. То есть, конечно, комфортно говорить, что это контракт. Но по факту, если разбираться исторически точно, вы не найдет момента фиксации этого контракта, но вы найдете того, кто первым о нем заговорил. Это был Ленин. Так что никакого социального контракта, на мой взгляд, не было.
А.Музыкантский:
Моя главная претензия к нынешней власти в том, что ей была создана абсолютно безнравственная система. Произошла абсолютная потеря нравственных чувств и норм.
В России нет культуры диалога, это здорово мешает делу. Консолидация может произойти только вокруг самого примитивного лозунга. Например, «выборы нелегитимны – и власть нелегитимна!» И это, скорее всего, и произойдет после президентских выборов, так как власть никаких уроков из выборов думских не извлекла. Основа легитимности всего государства у нас – выборы, и если этот последний столп легитимности выбивается, то не остается ничего. На этих выборах стало можно брать протокол и вписывать в него совершенно произвольные цифры. Это было и в Москве, и в Петербурге, и во многих местах. Я в свое время занимался выборами, и всегда честно говорил, что можно подделать максимум 3-5%. А теперь оказалось, что при такой системе можно подделать и, 30%, и 35%. Расскажу такой замечательный факт. Волгоградская область – в ночь с 4 на 5 декабря там подвели итоги голосования, ввели результаты в ГАС «Выборы», передали в ЦИК – у ЕР получается 38%. Но по правилам окончательной бумажкой является бумажный протокол. И 7 декабря из Волгограда приходят совсем другие данные – за три дня в области появилось 600 тыс. дополнительных избирателей, причем все они проголосовали поровну за 4 парламентские партии, по 150 тыс. В ЦИКе страшно удивились, Чуров звонит губернатору, спрашивает, что это значит. И выясняется, что при прежних результатах от ЕР проходило 6 депутатов (один депутат – это примерно 120 тыс. голосов). А там седьмым в списке стоял очень важный человек, который внес… скажем так, значительный вклад в избирательную кампанию. И вот он не проходит – значит, надо что-то делать, но так, чтобы никто не обиделся. Причем когда Чуров – Чуров! – изумился такому подходу, его собеседник даже не понял причин изумления и произнес замечательную фразу: «А я согласовал это с секретарями всех четырех обкомов»!
Горький смех в зале.
Вот то, что выборы, краеугольный камень демократии, превращены в такую штуку – это и есть главная моя претензия к власти.
Н.Беляева:
Я хочу ответить тем коллегам, которые заподозрили меня в недоверии к гражданскому обществу. Да нет, просто у нас возник новый социальный феномен, новый субъект, который называется иначе. Речь не идет о противопоставлении гражданского общества и публики, просто и гражданство, и демократия возникают через публику. Однако протестную публику легко подстроить под свои цели. Сможет ли публика сохранить свою субъектность? За этим стоит понаблюдать.
С.Каспэ:
Как докладчик я благодарен всем тем, кто сделал мне критические стимулирующие замечания, но остановлюсь только на двух сюжетах. Про то, что публика будет кем-то перехвачена, станет управляема и проч. Нет. Основная черта этой публики – она неуправляема в принципе. Именно попытки управления собой она считывает прежде всего и им прежде всего сопротивляется. Конечно, какие-то политические формы это движение приобретет, если не будет задушено и раздавлено. Но это будут совершенно не те политические формы, которые имеются в наличии сегодня.
О безопасности: тут самый слабый пункт моих построений, я это осознаю. Действительно странно, живя в России, говорить о безопасности – мы же помним Набокова (и учебник русской грамматики П.Смирновского): «Дуб – дерево. Роза – цветок. Олень – животное. Воробей – птица. Россия – наше отечество. Смерть неизбежна». Скорее всего тут дело вот в чем. Да, российское государство 2000-х не обеспечивает безопасность. А когда оно ее обеспечивало? Уж точно не в 90-е. Свою частную безопасность мы создавали сами. Все поставили железные двери, для кого-то гарантией безопасности стал загранпаспорт, для кого-то – знание английского или китайского, для кого-то – связи в ментуре, для кого-то – травмат, для кого-то – CV, для кого-то – банковские вклады или недвижимость за границей (в диапазоне от шале в Швейцарии до квартирки в Болгарии). Или все это сразу. В результате накопилась критическая масса частной безопасности – и достигла такой степени, что люди уже и на государство не боятся повысить голос.
А вот как ведущий семинара хочу в заключение сказать, что лучший плакат из виденных мною на Болотной площади был таков: «Требую ясности!». Онтологическая сила этого требования поражает. Именно над его выполнением и работает наш семинар.