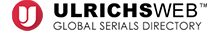Участники заседания
- И.А. Аверин (Горбачев-Фонд)
- А.С. Автономов (Институт государства и права РАН)
- Н.А. Антипова (Политический журнал)
- Д. Белов (МГИМО)
- И.А. Винюков (Фонд ИНДЕМ)
- В.В. Воробьев (Институт социологии РАН)
- И.Н. Гаврилова (Институт социологии РАН)
- Д. Галица (Посольство Венгерской республики)
- Е.Б. Галицкий (Фонд "Общественное мнение")
- П.В. Горский (Институт ситуационного анализа и новых технологий)
- М.А. Дианов (Институт региональных проблем)
- В.М. Журавлева (Институт ситуационного анализа и новых технологий)
- В.И. Зырянов (Институт современной политики)
- А. Кайцуни (Фонд "Enter-Polit")
- А.В. Кинсбурский (Центр исследований общественного мнения "Глас народа")
- М. Кононова (Газета "Куранты")
- М.С. Косолапов (Институт социологии РАН)
- И.Е. Кудрявцев (Институт гуманитарно-политических исследований)
- Н.Ю. Лапина (ИНИОН РАН)
- Е.Г. Ларина (Медиа-клуб "Ключевой вопрос")
- Г.О. Павловский (Фонд эффективной политики)
- Ю.А. Полунин (Высшая школа экономики, журнал "Эксперт")
- Н.П. Попов (Фонд ИНДЕМ)
- Н.В. Попова (Московский Фонд развития парламентаризма и социальной информации)
- Л.А. Преснякова (Фонд "Общественное мнение")
- Б. Рокфей (Посольство Франции)
- И.Ю. Рубинский (Институт Европы РАН)
- Ю.А. Рыжов (Международный инженерный университет)
- О.А. Савельев (Аналитический центр Юрия Левады (Левада-центр))
- А.М. Салмин (Российский общественно-политический центр, МГИМО)
- Р. Скопец (Посольство Словацкой Республики)
- В.С. Солодовникова (Посольство Белоруссии)
- Т.П. Сухомлинова (Российская академия государственной службы)
- Г.Н. Терентьева (Посольство Финляндии)
- А.С. Точенов (Центр прикладных исследований и программ)
- П.В. Фролова (Московский Педагогический Государственный Университет)
- С.С. Чайкина (Московский авиационный институт)
- Г.Л. Чудновский (Независимая исследовательская группа "Новая интеграция")
- В.Л. Шейнис (Институт мировой экономики и международных отношений РАН)
- Ф.В. Шелов-Коведяев (Высшая школа экономики)
- И.Г. Яковлев (Российская ассоциация политической науки)
- суть и возможность национального успеха;
- факторы риска и окна возможностей;
- контуры экономической модели;
- очертания политической системы -
- эти и смежные вопросы стали предметом обсуждения экспертов.
Ведущие семинара – С.И.Каспэ (Фонд "Российский общественно-политический центр"), Д.С. Шмерлинг (Фонд ИНДЕМ).
Фотографии любезно предоставлены П.В.Горским (ИСАНТ-ЦРПИ).
В рамках семинара состоялось также выступление заместителя министра экономического развития и торговли А.В.Дворковича, к которому рабочей группой в составе: А.В.Дворкович, Д.С.Шмерлинг, И.Н.Вигер, Т.Ю.Кузнецова был подготовлен специальный рабочий документ (MS Word 59k). Эта схема – исходный набор элементов различного уровня для проектирования укрупненной целевой программы диверсификации экономики России на ближайшие годы. Все уровни схемы (фокус, тенденции, направления...) предназначены для моделирования их возможного на ход и результаты реализации генеральной задачи. Они предоставляют разработчикам возможность выбора приоритетных элементов на каждом уровне, а также добавления/исключения новых элементов. Рабочий документ является основой и для обсуждения темы диверсифкации экономики, и для построения на этой основе моделей стратегического прогнозирования и планирования. См. также адресованные участникам семинара инструкции (MS Word 43k) по работе со схемой.
NB!
Публикуемый отчет представляет собой сжатое изложение основных выступлений, прозвучавших в ходе семинара. Опущены повторы, длинноты, уклонения от темы, чрезмерно экспрессивная лексика. Отчет не является аутентичной стенограммой, но большинство прозвучавших тезисов, гипотез и оценок нашло в нем отражение.
С.Каспэ:
Несколько слов о предмете сегодняшнего обсуждения и о том, как именно его хотелось бы обсуждать. Прежде всего – мы хотели бы выйти за рамки разговора о модернизации экономической, хотя, безусловно, по целому ряду причин как субъективного, так и объективного свойства экономическая модернизация будет находиться в центре нашего внимания. Но мы не хотели бы этим ограничиваться. Мы хотели бы говорить об этом процессе именно как о процессе системном, хотели бы, чтобы эксперты, говоря об экономической модернизации, упоминали бы, например, и об изменениях в политическом дизайне страны…
Это первое расширение темы. Второе пожелание состоит вот в чем: модернизация – это процесс, и потому хотелось бы говорить и о том желаемом состоянии, которое должно быть достигнуто в результате этого процесса. Конечно, движение – это все, но в то же время цель – не совсем ничто. Мы хотели бы понять, ради чего, собственно, нам так уж необходимо модернизироваться, и какого состояния мы хотим достичь в итоге. Что можно будет считать успехом системной модернизации, о которой так много говорится? Говорится, кстати, в самых разных контекстах, и в одном из них регулярно возникает и слово "успех". Как многие, может быть, отметили, к открывающемуся в эту субботу съезду партии "Единая Россия" был подготовлен целый манифест, который так и называется: "Путь национального успеха". И такая постановка вопроса, при всей специфичности исполнения этого документа, тем не менее представляет для нас интерес, поскольку тем самым наше сегодняшнее заседание попадает в некий достаточно острый политический контекст. Возникает вопрос – а что все-таки можно считать национальным успехом? Является ли национальным успехом экономический рост 6%? Или 8%? Или 16%? Является ли им вступление в ВТО, или, напротив, невступление в ВТО? Вообще можно долго перечислять разные хорошие вещи. Но является ли хоть какая-то из них или все они вместе тем, что заслуживает гордого имени "национальный успех"? Возможно, национальным успехом можно было бы считать успех той самой системной модернизации, о которой мы собрались говорить сегодня. Тогда в чем он должен состоять конкретно, каковы его критерии, каковы, соответственно, пути его достижения?
И, наконец, еще один момент, который тоже хотелось бы учесть. Нередко высказывается такое мнение, что, возможно, содержанием второго срока путинского президентства, если таковой будет иметь место (а мы все понимаем, что, скорее всего, будет), то ли должен стать, то ли может стать некий модернизационный рывок. Первый срок прошел относительно спокойно и не так революционно, как можно было бы ожидать, но вот уж во втором сроке он развернется, и пойдет системная модернизация. Так ли это? Каких именно модернизационных усилий можно ожидать в ближайшее время, можно ли их вообще ожидать, какими они должны быть? Может быть, нужно уже сейчас бить в колокола, то ли предостерегать от каких-то возможных шагов в этом направлении, то ли, наоборот, призывать к ним? В общем, мы хотели бы, чтобы временной горизонт нашего разговора все время перемещался – включая ближайшую перспективу 2003 года, захватывая и среднесрочную, и долгосрочную. Такие, я бы сказал, достаточно дерзкие пожелания и надежды вдохновляют организаторов семинара.
Д.Шмерлинг:
Чем больше мы рисуем схемы трансформации экономической модели, тем больше я начинаю их побаиваться. Например, речь идет о том, чтобы повысить в национальном продукте долю машиностроения, новой экономики, высоких технологий. Дело хорошее. Но чем больше мы к этому стремимся, тем больше становится понятно, что это тяжелое тело модернизации цепляется за политические, социальные, правовые отношения, за культуру, нравы, быт куда сильнее, чем это может показаться. Там такие связи, существование которых мы, конечно, подозреваем, но толком их не понимаем. Чем, собственно, мы отличаемся от развитых стран, что нам мешает модернизироваться? Когда было очень нужно, мы оказывались в состоянии форсированно развиваться. Можно вспомнить модернизацию России времен Петра I, когда в течение нескольких десятков лет на Урале были построены сотни заводов – это было сделано достаточно быстро и по тем временам эффективно. С какими людскими потерями это было связано, мы тоже, впрочем, знаем. Или ужасная модернизация 30-х годов, которая тем не менее во многих инженерных, технических областях означала колоссальный прорыв – другое дело, какими потерями она сопровождалась, страшно даже говорить об этом. Но, тем не менее, что-то как-то делали. Причем инженерная-то часть модернизации более или менее понятна. Но все больше догадываешься, что проблема эта комплексная, тесно связанная с малоизученными в нашей стране отношениями, а в нашей стране очень много малоизученных отношений. И даже многие вещи, которые мы начинаем совершенствовать (например, государственная служба или жилищно-коммунальный комплекс), сами по себе тоже очень плохо изучены, то есть попросту неизвестны. Например, в последние три дня взахлеб пишут о том, как можно реформировать федеральные органы государственной власти. Конечно, можно их поделить на три уровня, да хоть на пять уровней, Но дело в том, что истинное, а не формальное устройство даже федеральных органов исполнительной власти мало кому известно! И с этим надо что-то делать, надо закрывать эти лакуны в наших знаниях, иначе никакой модернизации не произойдет.
Г.Сатаров:
Я хочу сказать об одном социальном феномене, который активно изучается социологами, а в последнее время еще и экономистами-институционалистами, но при этом крайне редко привязывается к теме модернизации. То, о чем я буду рассказывать, навеяно нашими разнообразными, и не только теми, которые широко освещались прессой, исследованиями проблемы коррупции. Понятно, что коррупция – это некий сигнал о дисфункциях, и вот те дисфункции, которые наличествуют в нашем социальном, экономическом, управленческом организме – это дисфункции, связанные с проблемами модернизации. Рост коррупции связан с проблемами и с издержками модернизации. И Россия тут не исключение, а всего лишь очередная, абсолютно унылая и рядовая иллюстрация общей закономерности. Именно занимаясь этой тематикой, я обнаружил, насколько мы рядовые, типичные и нелюбопытные. Проблемы модернизации, которые стояли перед, извините за выражение, Индонезией лет сорок назад, настолько идентичны нашим, что у исследователя вообще-то возникает устойчивый комплекс неполноценности. К Индонезии, кстати, можно добавить некоторые страны Латинской Америки, некоторые страны Африки… Комплекс этот состоит из двух частей. Первая: "Господи, это что же, значит, мы всего лишь повторяем зады того, что они все проходили? И что же, нас ждет то же самое, что и Индонезию?". И вторая сторона: "Почему мы настолько нелюбопытны?". Могу, однако, сказать, что обвинять нам нужно не только себя, хотя и это нормально – когда ты попадаешь в ситуацию фрустрации, надо видеть прежде всего то, в чем виноват ты сам. Но, конечно, нам сильно помогли и модернизаторы со стороны, наши внешние советчики. В последние пятнадцать лет нас захлестнул вал рекомендаций, рисовавших разнообразные позитивные примеры. Но кто-нибудь из вас, а вы все из экспертного сообщества, вы все были к этому в той или иной мере причастны, хоть кто-нибудь видел хоть один доклад о негативных эффектах модернизации? Было такое?
И.Дискин:
Да я сам еще в 1988 году писал: "Опаментайтесь, панове!".
Г.Сатаров:
Нет, я имел в виду внешних модернизаторов!
И.Дискин:
И это было, был доклад Дьюка!
Г.Сатаров:
Значит, наше нелюбопытство еще более усугубляется – даже и предупреждали, а мы не обратили внимания. К чему я клоню? В чем, собственно, состояла и состоит до сих пор парадигма не только нашей российской модернизации, но и индонезийской, и нигерийской, и многих других? Логика примерно такова: вот смотрите, вы – Россия, вы такие бедные, неэффективные и коррумпированные. Посмотрите на нас: мы – Швеция, Дания, Голландия, Англия, США и т.д. Мы – некоррумпированные, эффективные и богатые. Давайте посмотрим, в чем разница между нами, она же очевидна! У нас такие институты, а у вас совсем другие институты. Что из этого следует? Очевидно, нужно эти наши институты перенести к вам, как это делалось в Нигерии, в Индонезии и в других славных странах. Они нам именно так говорили, хотя, конечно, и среди них присутствовали люди, понимавшие, что все не так просто. Ну, например, вы знаете, как Норт писал: "мы знаем, как устроены эффективные государственные институты, которые успешно защищают частную собственность, обеспечивают контрактное право и т.д. Но, к сожалению, наша наука не знает, как к ним прийти". Это написано черным по белому, а Норт не последний человек в экономической науке! Или Сьюзен Роз-Акерман, занимавшаяся политэкономией коррупции. Она очень много сделала в этом направлении, написала хорошие книжки, разработала множество рекомендаций по ограничению коррупции, но в конце концов скромно написала примерно следующее: все, конечно, замечательно, но надо понимать, что мои рекомендации относятся только и исключительно к институциональной модернизации. Эти рекомендации сработают только в обществе, где уже существует рыночная экономика и действуют эффективные демократические институты.
Но эти оговорки, как правило, делались как бы в скобках и нами, соответственно, за скобки выносились. Что же происходило в результате? Как подчеркивал тот же Норт, есть внедряемые институты, новые формальные нормы, и есть старые, неформальные нормы и практики. В чем суть процесса? Мы внедряем новый институт, а затем с некоторым временным лагом неформальные нормы и практики начинают постепенно подтягиваться к этим институтам. Это и есть процесс модернизации. Но, как мне кажется, Норт допустил здесь две ошибки. На одну из них указывал Парсонс задолго до Норта. Он приводил такой пример: финансовый рынок возник за четыре-пять веков до того, как появились первые формальные институты, его регулирующие. Это эмпирический факт! То есть совершенно не обязательно сначала возникают формальные институты, а затем к ним подтягивается практика – может происходить и наоборот. Вторая ошибка, которая становится видна при анализе всей практики многочисленных институциональных модернизаций, состоит в том, что неформальные нормы и практики не пассивны. Не происходит такого, что внедряется новый институт, новые формальные нормы, а неформальные нормы к ним постепенно "подстаканиваются", ничего подобного! Неформальные нормы активны, и они негативно активны. То есть на самом деле происходит следующее: внедряется новый институт, а старые неформальные нормы и практики ему сопротивляются. Они его либо вытесняют, либо реформируют, либо приспосабливают под свои задачи. И коррупция – лишь одно из проявлений этого сопротивления. Это, конечно, некая теоретическая формула, и я приведу некоторые иллюстрации. Ну, например, институт банкротств – если я правильно помню, то, поперебирав разные его модели, у нас приняли, по-моему, модель канадскую. Вопрос: как у нас работает институт банкротств и для чего реально он существует? Какие предприятия у нас банкротятся? Те, которые действительно нужно санировать, или же успешные? Ответ очевиден – успешные. Институт банкротств превратился в обеспечение того, что у нас сейчас называют недружественным поглощением. Уже появилась терминология, более того, появились фирмы, предлагающие услуги по недружественному поглощению. И один из главных инструментов недружественного поглощения – это институт банкротств. А рынок ценных бумаг, акционерные общества, наше законодательство в этой сфере, и гражданское, и уголовное? У нас миноритарный акционер, как вы знаете, в сговоре с судом может разорить любое успешное предприятие. Это тоже один из инструментов недружественного поглощения. То есть мы можем пройтись по всем нашим институциональным инновациям, по новым внедренным институтам, и посмотреть, что же произошло, на что они реально работают? На то, для чего они были изначально предназначены, или на нечто иное? И, к сожалению, вывод будет крайне неутешителен. Что же из этого вытекает? Я формулирую свою точку зрения, подчеркиваю, она еще достаточно предварительна, но я просто пользуюсь моментом, чтобы ее до вас донести, и, возможно, это вас побудит ее обсудить. Мне кажется, что проблема модернизации, и не только российской, но точно так же индонезийской, нигерийской, а может быть, и построссийской, после того, как мы распадемся на несколько государств (а такой сценарий вполне возможен – если продолжать нынешние тенденции, то это вполне естественный сценарий, и он в некоторых публикациях уже нарисован), так вот, проблема не в том, какую модель мы копируем – шведскую, немецкую, английскую или американскую. И проблема не в том, в какой последовательности мы вводим те или иные институты. Мне представляется, что это эффекты второго или третьего порядков. А ключевая проблема – это проблема взаимодействия между новыми, трансплантируемыми институтами, и реакцией на это социальной ткани, в которую трансплантируются эти институты, то есть взаимодействие между новыми формальными нормами и старыми неформальными нормами и практиками. Что значит "проблема именно в этом"? Эта проблема распадается на три крупных компонента. Первое – можем ли мы понять, что собой представляют эти неформальные нормы и практики? Второе – поняв, можем ли мы учесть при дизайне институциональных реформ наличие неформальных норм и практик и их сопротивление внедрению новых институтов? Третье – можем ли мы вообще влиять на неформальные нормы и практики путем институциональных реформ?
Когда бизнес разрабатывает некий инновационный проект, то значительная доля усилий уходит на теоретическую проработку проекта. Когда запускается в космос корабль, считается стоимость собственно запуска, полета и т.д., и считается стоимость подготовки всего этого, и это очень серьезные величины. Когда совершается некая социальная инновация – а любая социальная реформа есть социальная инновация, – то последствия непродуманных решений гораздо серьезнее, чем взрыв ракеты. Но можете ли вы хотя бы приблизительно указать, сколько в процентах от стоимости институционального проекта стоит его теоретическая проработка? Это слабонаблюдаемая величина, она даже не имеет единиц измерения. Поэтому пока соотношение затрат будет таково, каково оно есть, модернизация будет такая, какая она есть – в Нигерии, в Индонезии, в России. Требуется некий концептуальный пересмотр проблемы модернизации, новый парадигмальный, если угодно, подход к модернизации. Это подразумевает другой уровень подготовки специалистов другой уровень подготовки управленческих кадров. Это подразумевает принципиально другие функции управления как такового. В этом направлении надо двигаться.
И.Дискин:
Есть старый завет: "задавайте правильные вопросы, и вы всегда получите правильные ответы". Так вот мне представляется, что сама постановка вопроса о российской модернизации предопределяет ее крах. Почему? Давайте вспомним, откуда взялось понятие модерна и лозунг приведения некоей страны в соответствие с этим понятием. Термин "модернизация" предполагает наличие образца модернизации, и сегодня об этом тоже говорилось Для нашей страны это естественная, я бы сказал, привычная постановка вопроса. Более того, Россия уже много столетий не выходит из этой плоскости, что приводит к очень своеобразным методам решения проблем модернизации. Что я имею в виду? В России уже почти пять веков вначале в силу определенных идеологических предпочтений выбирается образец, то есть конструируется идеологическая схема, а затем происходит воплощение ее в жизнь силовыми средствами. Это такая телеологическая модель модернизации – Третий Рим, всеславянская империя, российское национальное государство, всемирное братство народов, построение социализма в отдельно взятой стране, в последнее время – быстрое построение рыночного и демократического общества. В последние десять лет в России пытаются воплотить в жизнь странную утопию, сформированную просветителями XVIII века – построение государства на началах рационального эгоизма, когда из столкновения индивидуальных воль, желаний и прочего само собою выстроится вполне рациональное государство. Смешная сторона этого занятия состоит в том, что уже в XIX веке люди вполне разобрались, что это фикция, утопия, что ничего такого не бывает – тем не менее нас это не останавливает. И понятно, почему в России реализуется именно телеологический проект. Да потому, что всегда существовал очень локализованный, очень малочисленный субъект, так называемые образованные круги страны, которые и были способны выстроить такую идеологическую конструкцию, а все остальное понималось ими как пассивный объект модернизации. Мне представляется, что сегодняшняя постановка вопроса исходит из схожего представления. Только что было сказано о зазоре между имплантируемыми институтами (они на самом деле не трансплантируемые, а именно имплантируемые, я бы даже сказал, импортируемые) и неформальными практиками. Но здесь есть одно фундаментальное обстоятельство: нет больше той России, с которой можно было обходиться, как с объектом. За последние 30-40 лет в России произошли очень серьезные макросоциальные трансформации, которые требуют решительно отказаться от такого понимания модернизации, за которое Россия уже многократно и дорого платила. От понятия "модернизация" следует перейти к понятию "трансформация", которое предполагает учет тех макросоциальных перемен, которые уже произошли в российском обществе. Я не буду на этом останавливаться долго – по этому поводу я довольно много писал, – попробую сформулировать очень кратко. Меняется макросоциальная модель социального действия в России. Если раньше это была модель традиционная, опирающаяся на внешний авторитет, внешние традиции, то эмпирические исследования социологов последнего времени очень четко показывают, что основной моделью социального действия в стране стал индивидуальный рациональный выбор. И не учитывать это простое обстоятельство было бы крайне ошибочно. Второе фундаментальное обстоятельство: целый ряд моих коллег, говоря о том, как изменилась система ценностей 30-40% наиболее образованного, активного, инициативного и т.д. населения, вспоминают о протестантских ценностях. Это также огромная ошибка. Беда состоит в том, что в ходе циклов российской модернизации в России оказалась очень сильно разрушена этическая среда, что радикально отличает макросоциальную ситуацию в России от того, что происходит в ряде других стран. У нас сложился, я бы сказал, феномен вырожденной трансформации, когда существует индивидуальный рациональный выбор без социальной ответственности и без общей этической среды. Поэтому обсуждение проблемы зазора между номинальными нормами и неформальными практиками должно вестись немного иначе. Речь должна идти о зазоре между ценностными основаниями тех номинальных норм, которые имплантируются в наше общество, и теми нормами, которые регулируют неформальные практики. Именно размер этого зазора в сфере этики предопределяет ту негативную роль, которую играют неформальные практики по отношению к номинальным нормам, здесь корень проблемы. Когда этот зазор не очень велик, когда имеется общее восхождение и неформальных практик, и институциональных норм к одним и тем же ценностям и представлениям, тогда, конечно же, прав Норт – номинальные институты подтягивают к себе неформальные практики. Когда же имеются фундаментальные расхождения между этическими основаниями неформальных практик и теми этическими ориентирами, которые подразумеваются институтами конкурентной экономики – уважением к закону, ориентацией на эффективность, на вертикальную мобильность, то есть бездной всяких вещей, которые не проговариваются, но подразумеваются… Когда самих этих ориентиров нет или они извращены (так, ориентация на вертикальная мобильность есть, но вполне определенная – любой ценой!), когда нет каких-либо этических ограничений, мы получаем вырожденное функционирование номинальных институтов. Они, естественно, превращаются в некую пародию, о которой Георгий Александрович подробно рассказывал. Поэтому ставить вопрос просто о модернизации бессмысленно и опасно, потому что постановка задачи приведения нашего общества в соответствие с некими нормами модерна будет только усиливать зияющие высоты между номинальными институтами и реальными практиками. А понимание тех мотиваций, представлений, интересов, которые сложились в неформальных практиках, приведет нас к выводу о необходимости совершенно иных трансформационных моделей. И пока мы не вскроем это фундаментальное противоречие, все, что мы делаем сегодня, только загоняет под ковер негативные тенденции в области неформальных практик, усиливает дезадаптацию и дезориентацию социальных субъектов и, самое главное, разрывает страну на две группы: ту, которая хорошо понимает, как это все устроено, и всех остальных. Я хочу напомнить слова Кеннеди – когда его спросили: "А как там у тебя отношения с мафиози?", он замечательно ответил: "Изменить страну может только тот, кто хорошо знает, как она устроена, как это все работает". У нас есть значительные слои и круги, которые прекрасно знают, как это все работает, и извлекают из этого знания очень существенную институциональную ренту, я хотел бы ввести это новое понятие. В стране нет единой институциональной среды. Каждый социальный субъект в зависимости от того социального капитала, которым он обладает, выстраивает себе локальную институциональную среду. Из зазора между этой локальной институциональной средой и номинальной институциональной средой возникает могучая институциональная рента, по своим масштабам значительно превышающая ту самую природную ренту, о которой сейчас так принято беспокоиться. И коррупция есть просто один из сегментов этой институциональной ренты. Поэтому вопрос о трансформации выводит нас в совершенно иные горизонты – без фундаментального этического обновления страны никакие институты невозможно сделать нелицемерными. Надо просто понимать, что то лицемерие, в условиях которого функционируют все наши сегодняшние государственный институты, абсолютно деморализует страну, подрывает всякую возможность устранения разрыва между номинальными нормами и неформальными практиками. Без этого нормальное функционирование политики, экономики, социальной жизни просто невозможно.
Г.Сатаров:
Я почти полностью согласен с Иосифом Дискиным, за исключением одного маленького нюанса: все правильно, но это опять же рассуждения немножко "с того берега" – в той их части, которая касается протестантской этики. Дело в том, что та же коррупция произрастает не обязательно в ситуациях конфликта интересов, но и, например, в ситуациях конфликта лояльностей, когда человек, предпринимая коррупционные действия, поступает тем самым предельно этично в рамках одной из своих лояльностей. Простой пример: к дагестанскому министру транспорта приходит человек из его аула и говорит: "У меня сыночек вырос, умница такая, назначь его, пожалуйста, начальником управления". И тот назначает его начальником управления. С точки зрения протестантской этики и западных норм это чистая коррупция. Но он был предельно этичен, он соблюдал лояльность своей группе.
И.Дискин:
Где здесь противоречие? Существует фундаментальная разница в этических основаниях, лежащих в основе неформальных практик и номинальных институтов. Если они радикально противоположны, то невозможно эффективное функционирование номинальных институтов, действуют только неформальные практики.
Л.Григорьев:
Как приятно послушать философов и сказать: вот, я не как они! Я буду говорить проще. Во-первых, когда мы говорим о модернизации в России, то это модернизация экономическая. Это проблема, в которую уперлись прежде всего экономисты, поскольку экономический рост вроде какой-то есть, а счастья абсолютно никакого нет. Если бы не это обстоятельство, мы бы здесь не сидели, потому что модернизация общества и государства никого в стране не волнует – ну, кроме присутствующих. Но никакого Дворковича сюда бы не заманили. Только то, что экономический рост остановился, вызвало интерес к этой теме. Если бы модернизация происходила, мы бы об этом знали, так же, как мы знали о финансово-спекулятивном буме 1996-98 гг. Если бы модернизация шла, то что бы происходило? Регистрировались бы новые фирмы, они бы как-то барахтались, что-то экспортировали, что-то занимали бы в долг у обладателей институциональной, а также природной, ренты, и т.д. Но что-то бы происходило. Мы же имеем полный покой и порядочек. При этом о модернизации говорится, но цели ее нам не сообщаются. В области общества, демократии, государства все понятно: мы знаем, какое примерно мы хотели бы иметь общество – ну, можно поспорить, опять вытащить разницу между западниками и азиатами, но более или менее все понятно. В экономике же нам ничего не говорят. Максимум, что мне удалось выдавить из лиц, близких к власти, это что Россия должна быть не хуже других. Как цель модернизации оно звучит как-то слабо. Вот помните, раньше говорились какие-то конкретные вещи: "Дать в пятом году пятилетки каждому пассажиру по мягкому месту". Это было понятно. Как звучит эта же цель на языке институционально-либеральной модернизации? "Сделать транспарентным процесс покупки билетов на электрички". То есть идея такая, что мы все сделаем либерально и транспарентно, создадим благоприятный климат и т. д. – а вот зачем мы это делаем, не говорится. Что будет эта модернизация из себя представлять, каким образом она будет выглядеть? Интересы основных игроков на этом рынке расходятся, потому что субъектов модернизации в нашей жизни может быть только три (я имею в виду – модернизации экономической, анализ иных институтов я оставляю иным, более подготовленным товарищам.) Во-первых, у нас может быть государственная модернизация – тогда это плохо. потому что это мобилизация, это коррупция и вообще опасно. Государство мы не любим. Во-вторых, это свободный – англосаксонский, протестантский, еврейский, веберовский капитализм, в диапазоне от Диккенса до Агентства поддержки малого бизнеса. Все бегут, несут свои сбережения, инвестируют, ренту не платят, взяток не платят, ничего такого, все инвестируют и развиваются очень творчески, особенно инновационные фирмы. Непонятно, правда, откуда берут деньги. Ясно, что такой модернизации у нас: а) нет; б) не буде; в) ее нигде никогда не было в таком виде. Это некая амальгама из реалий разных стран и периодов, в чистом виде нигде не наблюдавшаяся. В-третьих, это крупные компании и олигархические финансовые группы – и почему-то появились очень хорошие ученые, которые доказывают, что в них наше спасение, что только они могут обеспечить модернизацию. Правда, эти ученые категорически отказываются отвечать на простой вопрос: "А хотят ли они это делать?". То есть я не могу спорить с тем, что других субъектов нет, поскольку государство не хочет, а малый бизнес отсутствует, значит, остается только третий субъект. Но будет ли он это делать? Вывод на данном этапе заключается в том, что никакой модернизации у нас не происходит и происходить не будет, потому что крупный бизнес ведет себя абсолютно рационально, и у него просто нет такой потребности. Интересы крупных компаний не связаны с интересами модернизации страны, поэтому, возможно, мы обсуждаем несуществующую, потому что невыполнимую задачу. Это надо ясно понимать.
Далее: что на самом деле произошло, на мой взгляд, за последние четыре года после финансового краха? Произошла (я предлагаю рабочий термин, и кому он не нравится, пусть кинет в меня камень) мексиканизация страны. Это полностью соответствует тому, что говорил предыдущий оратор, а именно – возник разрыв между несомненным существованием номинальных институтов и реальной практикой, полностью им противоположной. Аналогии и в социально-политической области – Институционально-революционная то партия, пожалуй, получше КПСС выглядит по параметру времени нахождения у власти. Одного только президента там избрали не из нее, да и тот, кажется, уже обволакивается старыми кадрами, и они еще отыграются. Поэтому надо (я хочу вбросить пессимистическую нотку), во-первых, ясно понимать, что, возможно, у нас не будет модернизации. Именно потому, что у нас нет таких субъектов, которые: а)имеют деньги; б) хотят ее произвести из своих собственных рациональных побуждений. То, что некоторые фрагменты политической и финансовой элиты хотели бы, чтобы страна каким-то образом модернизировалась, это другой вопрос. Но из этого не вытекают соответствующие действия с их стороны, и пока не поставлена достаточно конкретная задача, не сказано, что ее достижение связано с определенными жертвами со стороны всех участников, и со стороны населения, и со стороны буржуазии, олигархов, и со стороны государства (какое-то его самоограничение в некоторых областях) – без этого, возможно, ничего и не будет.
Теперь возвращаюсь к истокам. Есть одна вещь. которая в принципе не описывается Нортом, и это именно переходный период. Скажем, проблема институционального вакуума у него решается очень просто. Он говорит так: "поскольку не может быть институционального вакуума, то, если нет формальных институтов, действуют неформальные". Они там как-то взаимодействуют, даже не важно, как. Просто когда мы запускаем реформирование институтов с резким переходом из одного режима в другой, или мы отменяем действующие институты, то, естественно, неформальные институты образуются быстрее формальных. Но чрезвычайно важно, адекватно ли организуются в этот момент формальные институты. И здесь я хочу привести два примера. Дело не в том, что кто-то нас не предупреждал, были люди трезвые, которые предупреждали. Но были сделаны две элементарные вещи, которые мы должны ясно осознавать: первая – попытка внедрить англосаксонскую практику принятия решений в области арбитража в принятое у нас континентальное право. Поэтому огромное количество трудозатрат по созданию правовой системы в экономике просто ушло в прорубь, потому что такая модель в принципе не может работать. Вторая, аналогичная – с банкротством. Я имел удовольствие написать первый вариант закона о банкротстве, который лежит во втором, абсолютно потерянном и забытом томе программы "500 дней". И вот были тяжелые сражения в 1990-92 гг. по вопросу о том, что же такое банкротство. Есть три варианта отношения к проблеме банкротства в начале: то, которое я представляю, поскольку я американист изначально, состоит в том, что банкротство обеспечивает ликвидацию "низкого хвоста" неэффективных фирм (так называемого "low tail"). Напомню, что самая высокая норма банкротств, зафиксированная в США – это 1857 год, 2,8% от популяции, а в Великую депрессию обанкротилось всего 10% фирм за 4 года, в основном малого бизнеса. Два других отношения – представители старой школы настаивают на том, что при банкротстве получатель активов одновременно принимает на себя все долги полностью. И школа победившая – использование банкротств для ускорения приватизации. Поэтому то, какого типа формальные институты привносятся в наш вакуум, насколько они адекватны, каково их влияние на формирующиеся в это же время неформальные институтов – все это принципиально важно.
И последнее – конечно, были трезвые люди, но если вы посмотрите на работы МВФ Всемирного банка первой половины 90-х гг., то вы обнаружите, что там обсуждалась только одна проблема – в какой комбинации должны производиться приватизация, либерализация и открытие рынков? А уж потом в разделе "разное" фигурировали институты. Если вы откроете даже замечательный том Гайдара 1998 г., объемом в 2000 страниц, то слово "институты" в нем появляется на 700-й странице, применительно к приватизации. И лишь совсем недавно в программах стабилизации началось усиление внимания к институционально-структурным элементам.
А.Салмин:
Очень кратко и злоупотребляя правом сопредседателя. я хотел бы задать коллегам один вопрос, не пытаясь сам на него ответить. Все-таки что такое модернизация в России 2003 года? Потому что модернизации "вообще" не существует, просто по определению. Она не может быть самоцелью. Вот я хочу быть таким, как Леонид Григорьев, хочу быть таким, как Иосиф Дискин, я им завидую и хочу быть таким же, но я же не смогу этого – тем более таким же, как они оба. И надо понять, что избавит меня от этого комплекса неполноценности, почему я хуже них, что я должен для этого сделать? Имеет ли смысл говорить вообще о модернизации в таком случае? Когда мы понимаем под модернизацией, скажем, использование у нас каких-то моделей латиноамериканских или восточноевропейских – это, как мне кажется, некая подмена понятий, почему у нас ничего и не получилось, когда мы пытались хотя бы мыслить таким образом. В Латинской Америке совершенно другая парадигма, там все очень просто. Переход, трансформация, модернизация, транзит – называйте это как угодно – из одного хорошо известного состояния в другое хорошо известное состояние, только чтобы было чуть получше, чем в прошлый раз, когда переход не удался. В Восточной Европе тоже формально говорили о модели модернизации, но на самом деле использовали совершенно другую, состоявшую в присоединении Восточной Европы к системе внешнего кровообращения, в ее включении в систему западных, европейских прежде всего институтов. Вот и все. Хотите – называйте это трансформацией, хотите – модернизацией, но в России-то ничего этого нет, ни того, что было в Латинской Америке, ни того, что было в Восточной Европе. И где здесь критерии, где система выработки этих критериев, с помощью какой логики мы можем найти эти критерии, опираясь на которые мы сможем сказать через 10 лет, что мы модернизировались?
А.Нещадин:
Есть несколько пониманий модернизации. Первое – понимание ее как перехода от одного экономического уклада страны к следующему. Другое – оно в какой-то мере равнозначно реформированию, но реформирование есть процесс, который затрагивает некие институциональные системы, которые должны этот переход обеспечить. И у любой страны есть несколько вариантов дальнейшего развития. Когда страна перестает производить добавленную стоимость, когда добавленная стоимость становится отрицательной и страна не может нормально обеспечивать процесс инвестирования, у нее есть несколько выходов. Выход первый – начать прирастать территорией, ресурсами, лесам, полями и т.д. Выход номер два – резко сократить население. Например, чума в Европе ускорила развитие Европы лет на 75. Выход третий – спокойно пойти войной на соседние государства, то есть использовать их ресурсы. И вот только когда все эти пути исчерпаны, любая страна начинает реформирование и модернизацию. Поэтому права китайская поговорка, "не дай Бог родиться в эпоху перемен". Для России практически все сценарии модернизации, в отличие от Европы, были неестественны, то есть мы еще не выработали ресурсы старых укладов, когда уже были вынуждены приступить к созданию новых, просто из-за угроз своей собственной безопасности. Именно поэтому все модернизации были насильственны, и именно поэтому они не имели самого основного компонента – возможности дальнейшего развития. И как только заканчивалось давление императора, Сталина, кого хотите, система переставала срабатывать полностью, она самовоспроизводилась, но не развивалась. В значительной мере это связано с тем, что ни одна из реформ не изменила архетип нормального российского человека, архетип его поведения на каком-то глубинном уровне. И все то, что предлагается сегодня, коллективным бессознательным отрицается и отторгается полностью. У нас примерно 6% активного населения (что совпадает со среднеевропейским уровнем), 27% – это люди, которые ориентируются на опыт успешного соседа и повторяют его, и примерно 50-58% населения – это люди, возлагающие вину за то, что у них ничего не получается, на барина, на президента, на царя, на мэра – на кого угодно, только не на себя. Вы все должны были мне объяснить, как я должен был себя вести, и тогда все было бы нормально. В свое время этот архетип, кстати, был самым распространенным среди директоров заводов, начальников цехов, которым четко формулировали задачу, и четко ее выполняли. Сегодня те 40% населения, которые хоть что-то получили от последних трех-четырех лет, действительно желают высоких темпов экономического роста, но готовы вообще что-то делать, если им объяснят, что делать А на следующей ступеньке иерархии желающих что-то делать стоит непосредственно президент. В прослойке между ними просто не существует мотивированного, заинтересованного человека, желающего на развитие. И вся реформа управления приведет к блестящему краху по одной простой причине – люди совершенно не мотивированные и вообще работать на развитие и не собираются. Когда разговариваешь с мэром города, говоришь ему: "Что ты делаешь? У тебя три школы, каждая набрала по одному классу в 15 человек, город небольшой, что ты будешь делать? Что, сливать школы будешь, школьников возить на автобусах?". А он говорит: "Ни хрена делать не буду". Я говорю: "Почему?" Отвечает: "Я на смете – сколько денег дадут, столько сделаю, остальные могут быть свободны". При этом машина "Форд", нормальный секретарь, обслуживающий персонал, по меркам данного города он живет нормально, независим, имеет коррупционную ренту – и надеяться заставить его думать о развитии города просто смешно. И вот этот подход сидит в значительной мере в социальном архетипе. Но это было бы еще бы полбеды, если бы смены архетипа не происходило. А она, к сожалению, происходит, и получаются две интереснейшие проблемы. Проблема первая, о которой все говорят вскользь, как, например, уважаемый господин Сатаров. Вопрос стоит совершенно просто: идет изменение пространственной структуры России, и именно эта вещь выступает в качестве базового ограничения при принятии любых вроде бы экономически правильных решений. На сегодняшний день миграция направлена так: общая линия с северо-востока на юго-запад, а внутренняя миграция в областях направлена на концентрацию населения вдоль ниток коммуникаций – дороги, связь и все остальное, а также в крупные центры, где есть работа. Возьмите славный Красноярский край, там три центра – сам Красноярск, Норильск и золотодобывающая промышленность, и транспорт между ними. Вокруг них в деревнях, и даже уже в отдельных малых городах самогон продается по четвертинкам, потому что ни у кого нет денег, чтобы купить пол-литра, а садовые участки уже почти перестали обрабатываться. Вот что происходит. И тогда мы должны принимать спокойные решения о цене такой модернизации. Цена, по всей видимости, будет определяться очень просто: либо мы сохраняем население, либо мы сохраняем территорию. Третьего здесь не дано. Либо мы начинаем массовую иммиграцию к нам, и тогда единственное, о чем стоит говорить – это о национальной политике в условиях размывания нации, либо сохраняем нацию – а Европа, кстати, уже рисует Россию, расцвечивая ее в три цвета разных стран. Европейская Россия до Урала, Сибирская и Дальневосточная, совершенно серьезно. Проблема вторая – впервые в России возникла система воспроизводства гетто, система воспроизводства люмпена. Никогда в России этого не было. Всегда в России считалось, что вот мы будем жить из последних сил, с одним куском хлеба, отказывая себе во всем, но уж сыну дадим образование, у него будет будущее… Сегодня желающие могут на метро и автобусе отправиться в Капотню и посмотреть, что такое гетто по-московски, с полным самовоспроизводством, когда детей вообще никто не водит в школу, им, наоборот, объясняют, что ходить туда бессмысленно – один хрен будешь получать свои 100, 200, 300 рублей, ну, максимум 3 тысячи, а лучше иди таскай грузы на овощебазе, на рынках, помогай семье. Это тоже Москва: когда в однокомнатной квартире проживает по 14-15 человек, а прописано до 40. Все, оно пришло к нам. И к этому же: та молодежь, на которую мы в какой-то мере возлагали надежды и говорили, что ладно, мы были такими-сякими, комсомольскими-коммунистическими, разочаровавшимися со сменой морали и норм… Молодежь сегодня не может понять простой вещи: чего же вы, мамы и папы, блин, реформировали 20 лет, когда мы сейчас едва надеемся достичь к 2008 году уровня жизни, образования и всего остального образца 1989 года? И при этом какой-либо системы вертикальной и горизонтальной ротации для молодежи на сегодняшний день не существует. Ее нет. Восстанавливаются старые правила. Сегодня надо найти свое место в жизни и ждать, пока оно освободится. Восприятие населением всех этих вещей совершенно отлично от элитного и в принципе выглядит так: мы думали, что кроликов будут кормить, а их будут разводить.
Ф.Шелов-Коведяев:
Сегодняшнее заседание отличается тем, что вопросы хорошо группируются и может быть, даже пересекаются между собой. Поэтому я буду говорить комплексно. Первое – суть национального успеха. Это участие в принятии и реализации ключевых решений, кардинально влияющих на развитие страны, общества, экономики, в том числе полномасштабное участие в работе тех структур, которые принимают эти решения Я подчеркиваю, что это не ООН, это не ОПЕК, это не обсуждение нефтяных проблем с США. Решения принимаются не там, решения принимаются в нефтяном клубе из восьми компаний, с третьей по седьмую позицию в этом списке находятся наши компании. Там Ходорковский, там Алекперов, там Фридман, там Богданчиков. И мы наблюдаем, что, к сожалению, в последнее время, в частности, в связи с событиями вокруг Ирака, там не вполне считаются с нашими интересами, хотя с кем-то считаются больше, с кем-то меньше. Но, тем не менее, не вполне посчитались со всеми. Второе. Включение нашего интеллектуального и культурного фактора в ситуацию XXI века, когда именно эти факторы окажутся фундаментальными, может быть, даже определяющими в мировом экономическом развитии. И отсюда описывается желательная экономическая модель, то есть ориентация на развитие этих факторов, потому что даже информационные технологии – это уже вчерашний день. Фактор риска при этом я определяю для себя как "загадочную славянскую душу", при том, что здесь не имеет никакого этнического компонента, это просто сообщество людей, живущих здесь. Ничего особенно загадочного тут при этом нет, наоборот, коренной порок очень прост: мы что-то придумали, мы сделали научную разработку, и теперь пусть кто-нибудь другой ее реализует и осуществляет. Для наших партнеров в Европе, Америке, Китае это действительно загадка – ребята, говорят они, если вы такие умные, если вы все это придумали, и никто лучше вас не может это реализовать, зачем вы от этого отказываетесь? Это похоже на критерий различения интеллигента и не интеллегента. Если он высказался и ушел, то есть "я вот тут вам сказал, как надо, и вы – давайте", то это интеллигент. Вот если он сам стал, не дай Бог еще в сотрудничестве с властью, что-то делать – нет, это не интеллигент. Интеллигент может только отстраненно, как бы ex cathedra проповедовать. Если мы не отрешимся от такого отношения к действительности, то нам ничего не поможет. То есть необходим слой, который будет готов взять на себя ответственность за страну, слой достаточно значительный, толстый, широкий, влиятельный и т.д. Что связано и с возникновением гражданского общества, несомненно. Вот сегодня Сатаров говорил об "аульном сознании", но то же самое мы наблюдаем в Британии, например. Да попробуй ты не взять на хорошую должность, если ты имеешь такую возможность, своего однокашника, или сына своего приятеля – ты просто ты перестанешь быть членом общества, в следующую секунду. Разница только в одном: там есть слой, взявший на себя ответственность за страну, за всю Британскую империю, которая теперь называется Британское Содружество Наций, да и как бы за состояние всего мира. Другой фактор риска. Совершенно очевидно, что происходит сдвиг всей мировой системы, кто-то говорит об обвале, кто-то об оползне. Всей системы – экономической, политической. Совершенно очевидно, что в итоге установится какой-то новый баланс, который будет основан не на наличии одного лидера. Будут лидером США, будет лидером Европа, очевидно, какую-то роль во всем этом будет играть Китай. Где мы здесь будем? Мы будем против США, или мы будем за США? Мы будем выстраивать собственную политику вместе с Европой или по отдельности? И ежели будут приняты правильные решения, и если найдется кому взять на себя ответственность за страну, то тогда у нас возникнет устойчивое общество с развитыми демократическими институтами.
О.Гаман-Голутвина:
Позвольте одно предварительное замечание – относительно параллелей между современной Российской Федерацией и Латинской Америкой. Дело в том, что сентенции относительно движения России в сторону Латинской Америки звучат, как минимум, десятилетие. Однако хочу обратить ваше внимание, что американские коллеги, скажем, в центре Вудро Вильсона в последние пару лет изменили свои оценки этого десятилетия говорят об успешном продвижении Российского Федерации в сторону демократии – это медицинский факт, как сказал бы Бендер.
А теперь по существу. Можно было бы придраться к самой формулировке темы, поскольку она звучит так, как будто не было последнего десятилетия, ознаменованного не только фундаментальным переосмыслением очень амбивалентного опыта реализации идей модернизации в России, но и фундаментальным сомнением в валидности и верифицируемости самого концепта модернизации, которое происходило в рамках и отечественной политической науки, и зарубежной политической и экономической науки. Произошла даже своеобразная смена вех.
Позвольте вернуться к истокам. Что такое на самом деле модернизация? Общий ответ очень прост и всем известен – это переход от традиционного общества к современному. Но известно, что в пятидесятилетнем периоде функционирования концепции модернизации было по меньшей мере две волны. Первая волна – это 50-60-е годы, концепции, родившиеся на волне того, что называлось национальными освободительными движениями. Критериями модернизации в это время были такие параметры, как степень и качество индустриализации, и вся группа понятий, связанных с этим центральным: урбанизация, секуляризация, качество и уровень массового здравоохранения, образования, социальных программ в целом. И с точки зрения тех теорий США, Великобритания и СССР равно считались обществами индустриальными, то есть современными.
Но пришли другие времена, взошли другие имена. 80-90-е годы – новая волна, новые концепции, новые критерии, между прочим. И в рамках этой волны были выдвинуты в качестве основополагающих такие критерии, как свободный рынок и демократия. Никто, правда, не удосужился объяснить, какой рынок имеется в виду: тот ли классический, который известен по началу и середине XIX века, или современный, чрезвычайно корпоративный и бюрократизированный. Но в любом случае эти критерии были выдвинуты в качестве основополагающих.
Что мы имеем в итоге десятилетней практики попыток реализации в России как одних подходов, так и других? Мне кажется, что результат аналогичен результатам поисков черной кошки в темной комнате, когда кошки там нет.
Нет необходимости как-то конкретно и подробно аргументировать этот тезис. Звучавшие ранее в этой аудитории выступления достаточно подробно освещали в том числе и экономические аспекты проблемы. Если коротко, можно сказать одно. По большому счету, как с точки зрения первой группы теорий, так и с точки зрения второй группы теорий, результаты, которые мы получили, могут быть названы демодернизацией. Причем как в сфере общесоциальных показателей, так и в конкретных сферах. Что касается сферы государственного управления, то, конечно, разрастание бюрократического аппарата без повышения его эффективности, коррупция, непотизм, сращивание власти и собственности и т.д. Что касается сферы экономики, то хочу привлечь внимание лишь к нескольким моментам. Очевидно, что процесс реализации идей модернизации применительно к отдельным экономическим субъектам имел различные результаты. Что касается, условно говоря, элитных субъектов, то произошло становление такого феномена, который в политологии описывается концептом "корпоративизм". Иначе говоря, произошло сращивание власти и бизнеса, что, как известно из классики политической мысли, есть родовой признак феодализма. Это, очевидно, препятствует становлению хотя бы минимум свободного рынка в его классическом, по Хайеку, понимании. Что касается массовых субъектов экономических отношений, то произошла натурализация экономических отношений, включая демонетаризацию обмена и декоммодитизацию, то есть утрату произведенным продуктом качества товара. Иначе говоря, мы возвращаемся к моделям натурального производства и обмена. Что в более широком смысле означает становление того, что Шанин и его соавторы называют эксполярной экономикой, а другие авторы, например, Шкаратан, называют экономикой выживания.
В этой связи возникает вопрос о тех методологических альтернативах, которые способны прийти на смену концепциям модернизации. Мне представляется, что правы те эксперты, которые говорят о следующих экономических парадигмах. Первая парадигма – это теории корпоративизма в различных вариантах. Вторая парадигма – слаборазвитости, которая в свое время была разработана как методологическое объяснение эволюции стран третьего мира, но, естественно, с поправкой на специфику современной РФ. И наконец, третья парадигма – это то, что условно может быть названо теориями конгломератного мироустройства, смешанного несистемного сосуществования различных анклавов, современного и традиционалистского.
Но проблема заключается в том, что происходит не только разрастание этой экономики выживания, но и эрозия инновационных секторов экономики. Главное в этом процессе, с точки зрения нашей сегодняшней темы, заключается в эрозии инновационного субъекта, эрозии инновационного человеческого потенциала. Устанавливается преобладание того человеческого потенциала, который занят в обрабатывающих отраслях и того, который польские социологи называют "рабочие крестьяне". Это тот человеческий материал, который в очень слабой степени может быть субъектом инновационного развития. Хуже всего то, что участниками негативного консенсуса неразвития стали и элитные группы, и массовые. Кто воровал завод, кто трубу, но все были при деле. И Третий Рим оказался в третьем мире.
Итак, мы имеем ситуацию, в которой понимание развития как ценности не характерно ни для одного сектора политического класса. Условно говоря, многие размышляют по принципу: чего-то хочется – сам не знаю чего. То ли Конституции, то ли севрюжины с хреном. Но вектор развития отсутствует совершенно. Причины тому видятся двух порядков. Глубинные и собственно исторические. Что касается глубинных причин, то речь, конечно, должна идти о последствиях вот этих эсхатологически направленных проектов форсированной модернизации, которые реализовывались в России на протяжении нескольких последних веков. Сегодняшний индифферентизм к проблемам развития есть в определенной степени движение маятника в обратную сторону после увлеченности глобальными эсхатологическими проектами форсированной модернизации.
Что касается более конкретных, близких по времени нам исторических причин, то речь об отсутствии общенациональной оси идентификации, как элитных групп, так и массовых. Для элитных групп осью идентификации является корпоративная, точнее квазикорпоративная ось. Для массовых слоев – региональная ось идентификации. И если говорить об элитных группах, которые и по идее, и в условиях российского общества являются субъектом целеполагания, субъектом формирования ценностных иерархий для всего общества, то имеет значение еще и колоссальная внутриэлитная разобщенность, когда идет война всех против всех, война на уничтожение внутри элитного сообщества, которое точно назвали "террариум единомышленников". Поэтому, отвечая на вопрос, прозвучавший из уст Шмерлинга, относительно того, почему индустриальная модернизация 30-х – 50-х гг. удалась, а сегодняшняя нет, я вижу причину этого в том, что лозунгом сегодняшнего процесса вообще не была модернизация, несмотря на то, что слоганом его она была. Но реально цели такой не ставилось. Лозунгом процесса была дистрибуция. А импульсом – присущее советской номенклатуре противоречие между неограниченным правом распоряжения неограниченными ресурсами и совершенно незначительным правом владения. Вот это стремление конвертировать формальное право распоряжения в реальное право владения и стало базовым импульсом. К тому же надо иметь в виду, что этот исторический отрезок вписался в общую закономерность колебаний длинных волн – волн увлечения общества стратегическими, глобальными проектам и его приверженности частным ценностям. Эти колебания хорошо проследил Шлезингер на материале американской истории, в том числе истории XX века. Перефразируя Кеннеди, можно сказать, что в России слишком долго спрашивали, что ты можешь сделать для страны. Поэтому большинство граждан сегодня интересуется тем, что страна может дать им.
Г.Сатаров:
Мы тут иногда поем дифирамбы свободной конкуренции, противопоставляем рынок классический рынку корпоративному. На самом деле нет никаких монотонных зависимостей между тем или иным типом рынка, той или иной политической системой, той или иной степенью коррумпированности и т.д., вот в чем проблема. И этого они нам, гады, не говорят. Маленький пример, чтоб вас позабавить. Где-то в 60-х годах XIX века два очень милых джентльмена в Калифорнии учредили фирму. Фирма практически без уставного капитала. Каждый по доллару, символически. После этого они, будучи лицами властными, приняли решение о строительстве железной дороги из Калифорнии на восток. После этого они приняли такие законы, чтобы можно было собирать деньги с представителей тех территорий, графств, через которые пройдет дорога. Кстати, по принятому постановлению, дорогу должна была строить эта фирма, которую они двое учредили. И они инициировали, будучи властными людьми, это дело. Они собрали огромное количество денег. Чуть меньше половины они украли напрямую, присвоили, просто эти деньги не пошли на строительство дороги. Остальные деньги пошли подрядчикам на строительство дороги, но из тех денег, которые пошли на строительство дороги, они, совместно с теми, кому они эти деньги отдали, тоже часть украли. В результате дорога была построена, по ней до сих пор ездят. А один из этих товарищей учредил очень известный университет, он именем его и называется. В то же самое время тоже железную дорогу, но севернее пытался строить один человек. Если мне не изменяет память, фамилия его была Кук. Он был личным другом президента, и поэтому он считал, что ему… Да, забыл сказать, что те двое раздавали взятки направо и налево везде. Потому что нужно было такие же законы, которые они приняли в Калифорнии, принять в соседних штатах, чтобы так же собирать мзду с графств. В общем, кучу взяток раздали. Кук же никаких взяток не раздавал, потому что считал, что раз он друг президента, то он дорогу и так построит. И эта дорога не была построена. Вот какая была коррупция, а ведь это было время абсолютно свободной конкуренции в США. Потом конец XIX века, полная олигархизация – а там какая была коррупция! И какое было сращивание между бизнесом и властью в конце XIX – начале XX века в Соединенных Штатах, нам и не снилось! Поэтому все, к сожалению, абсолютно не просто.
О.Гаман-Голутвина:
А в этом как раз порочность концепции модернизации. Она исходит из представления об обществе как о системе, части которой конформны. А это кластер, где нет соответствия между частями, есть склеивание разнородного.
С.Каспэ:
На самом деле это обвинение, безусловно, оправдано, и мы его принимаем. Потому что сделано это было сознательно. Мы сознательно использовали формулировки семинара вообще в подготовке всей беседы. Термин модернизация без какой-либо критики, без расшифровки. Потому что пока работают мыслители, это понятие используют те, кто принимают решения. Независимо от того, какие дистинкции можно проводить между модернизацией и трансформацией, используется понятие модернизации.
А.Дворкович:
Остановлюсь только на принципиальных моментах и на общем подходе, который мы предлагаем использовать в процессе принятия решений. Я хотел бы начать с нескольких отправных точек. Почему вообще мы говорим сегодня о диверсификации как об основной идее, как об основном элементе идеологии экономической программы правительства на ближайшие годы – и, соответственно, экономической модернизации? Первое. Экономика России не может и не будет расти за счет нефтяного сектора, и не просто в ближайшем будущем, но уже начиная со второй половины текущего года. Уже совсем скоро нефтяной сектор перестанет быть локомотивом роста. Эта отрасль вкупе с газовой промышленностью и другими базовыми отраслями российской экономики может обеспечить экономический рост России на 2%, максимум 3% в год в десятилетней перспективе, не более того. Если мы либерализуем газовый рынок, если мы создадим условия для конкуренции в железнодорожном транспорте, в электроэнергетике, мы сможем за счет этих базовых отраслей расти и более высокими темпами. Но практически любой прогноз, исходящий из разумных предположений, не позволяет насчитать больше, чем 2-3%.
Во-вторых, те отрасли, за счет которых растет российская экономика, являются, за исключением нефтяного сектора, наименее эффективными с точки зрения производительности труда, использования имеющегося трудового и интеллектуального потенциала и, таким образом, в ближайшей перспективе дают наименьшую отдачу общественных ресурсов в целом. Поэтому расчет на продолжение развития как экономики, так и общества на основе данных секторов является изначально ошибочным.
В-третьих, в отличие от уровня использования потенциала в этих отраслях, уровень использования потенциала в отраслях с более высокой степенью обработки, отраслях, основанных на использовании знаний прежде всего, в отраслях, завязанных именно на потребительский рынок, – наименьший. То есть объем рынка, объем тех ресурсов, которые еще могут быть задействованы в этих отраслях, максимален и, таким образом, потенциал роста в этих отраслях тоже максимален. Это касается всех секторов, начиная с малого бизнеса, который, впрочем, представлен во всех секторах. Прежде всего в отраслях, ориентированных на потребительский рынок, в сфере услуг, интеллектуальных в том числе. То же самое касается несырьевого сектора, прежде всего машинотехнической продукции, производства потребительских товаров для внутреннего рынка. Речь идет о тех товарах, которые мы сейчас ввозим в страну, об импортозамещении. Во всех этих отраслях потенциал роста измеряется не процентами, а разами. Потенциал составляет от трех раз, допустим, в лесопромышленном комплексе, до 5-6 раз, если брать срез по малому бизнесу, и до десятков раз, до бесконечности в тех отраслях, которые пока в РФ просто не существуют.
Исходя из этих посылок, мы определяем диверсификацию экономики как основную идею. Нельзя использовать все имеющиеся ресурсы в одной сырьевой корзине. Если исходить из того, что эти посылки правильные, то мы переходим на следующий уровень. Какова роль государства в этом процессе? Если рассматривать экономику как систему, состоящую из рационально мыслящих субъектов, то процесс пойдет сам собой. Если нефтяной сектор постепенно будет терять эффективность, то рационально мыслящие субъекты будут вкладывать деньги в другие сектора. И через какое-то время произойдут структурные сдвиги в экономике. И сегодня предприниматель в нефтяном секторе смотрит на другие сектора. Например, на малый бизнес. Но выгодных проектов в этой сфере сегодня минимум. Основная причина – чрезмерный уровень издержек, связанных с бюрократическими барьерами и налоговым законодательством, а также доступом к ресурсам. В нефтяном секторе эти проблемы тоже есть, но по сравнению с общим объемом рентабельности издержки намного ниже. И это наводит на мысль, что государство должно быть активным участником процесса диверсификации, прежде всего путем создания условий для развития других секторов экономики. Более выгодные условия должны создаваться для несырьевых секторов, при этом условия для сырьевых секторов будут оставаться примерно такими же, какие они есть сегодня.
При этом существует две возможные стратегии. Одна стратегия под названием win-lose, одни выигрывают, другие проигрывают, или отобрать и поделить, что то же самое. Другая стратегия заключается в принципе win-win, в создании более выгодных условий для всех, но с более интенсивным продвижением в тех секторах, в которых мы хотим использовать потенциал роста в более короткие сроки, а именно в несырьевых. В Программе сделан выбор, естественно, в пользу второго варианта, хотя и первый вариант тоже рекламируется. Его поддерживает левое крыло Госдумы, это все, что связано с рентным налогообложением, извлечением большей части или всей ренты в пользу государства с последующим использованием этих ресурсов в виде государственных инвестиций или иных подобных механизмов. В Программе делается упор прежде всего на второй вариант. При сохранении всех существующих условий для сырьевого сектора мы резко меняем условия функционирования несырьевых секторов.
Основные проблемы с реализацией такого проекта заключаются в следующем. Первое. Где находится точка принятия решений сегодня в государстве при нынешнем состоянии механизмов принятия решений. Точку принятия решений всегда оказывается удобнее отнести на год вперед. Например, принятие налогового закона в Думе. Решения такого типа очень легко подвергаются давлению и потому обходятся дороже, чем принятие решений в сегодняшнем дне. Перенос точки принятия решений с завтрашнего дня на сегодняшний означает принципиальное изменение механизмов принятия решений в Правительстве и на всех уровнях власти. Второе. Горизонт планирования. Сегодня этот горизонт находится в интервале от минус трех лет до максимум плюс двух лет. Минус трех, потому что мы больше думаем о возврате старых долгов, чем о том, как мы будем жить в будущем. Плюс двух, потому что мы начинаем думать о бюджетной политике на следующий год в начале текущего года. Но это максимум того, на что мы способны. Примерно на то же способны