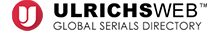– легитимность государства vs. легитимность Церкви?
– политическая теология vs. политические технологии?
– политические и культурные конфликты vs. «политико-культурный синтез»? –
эти и смежные вопросы стали предметом обсуждения экспертов. Семинар открылся специально подготовленными выступлениями А.И.Кырлежева (журнал «Государство, религия и церковь в России и за рубежом», Синодальная библейско-богословская комиссия РПЦ), Б.В.Дубина (Левада-центр), А.В.Макаркина (ЦПТ).
NB!
Публикуемый отчет представляет собой сжатое изложение основных выступлений, прозвучавших в ходе семинара. Опущены повторы, длинноты, уклонения от темы, чрезмерно экспрессивная лексика. Отчет не является аутентичной стенограммой, но большинство прозвучавших тезисов, гипотез и оценок нашло в нем отражение.
А.Кырлежев:
Прежде всего, говоря о формуле «церковно-государственные отношения», надо понимать, что она устарела, что она отсылает к понятию советского времени «государственно-конфессиональные отношения». Что мы подразумеваем под «церковью»? В медийной среде, которая, с одой стороны, претендует на экспертное мнение в подобных вопросах, но к которой, с другой стороны, нельзя предъявить по этому поводу никаких претензий, люди обычно не понимают, что они имеют в виду под «церковью».
Сегодня имеет место не только проблема определения понятия «церковь»; она существует в рамках более широкой проблемы – постсекулярной концептуализации религии. За «церковью» стоит «религия», и что она собой представляет – новый вопрос, ответ на который сейчас часто не могут найти и религиоведы. Я вижу церковь, во-первых, как иерархическую клерикальную институцию, в которой есть очевидное социологическое измерение – духовенство как социальная группа. Церковь, во-вторых, – некое сообщество, не данное нам в ощущениях, то есть «воображаемое сообщество» (в духе концепта Бенедикта Андерсона, разработанного им в рамках теории нации). Хотя внутренне все его члены образуют сообщество, внешне оно никак не опознается: возможно опознать лишь какие-то его группы (например, «духовенство»). «Церковь» (как и «нация»), следовательно, есть сообщество, с одной стороны, ограниченное, с другой стороны, суверенное. «Церковь» всегда отделяет себя от «не-церкви» – даже в древние времена, когда все общество состояло из христиан, было так – и в этом разграничении стремится к суверенности, к тому, чтобы ее специфика была распознана. Суверенность церковного всегда присутствовала и фиксировалась, – Церковь хочет быть наряду с государством сувереном, какбы «вторым государством». Часто Византия видится как историческая норма церковно-государственных отношений, но многие понимают, что такая конфигурация сейчас невоспроизводима, хотя структура Церкви хочет именно этого.
Идея сращивания государства и Церкви, ставшая общим местом либерального дискурса, в этом контексте неверна, – она «негатив», оборотная сторона классической секуляристской идеи об отделении Церкви от государства. Когда секуляризм не работает в чистом виде, то его пытаются подменить «сращиванием». Отметим, что в византийском варианте нет никакого «сращивания», а, наоборот, имеет место разделение! Внутренняя логика действий сегодняшней Церкви и в центре, и на местах руководствуется желанием «симфонии»: взаимодействия с сохранением своей субъектности.
За воображаемым сообществом Церкви стоит своя социология. Как у нас опознают членов Церкви, верующих, православных граждан? Мне кажется, что до сих пор господствует странный подход, когда сами критерии религиозности сформулированы по жесткой, ригидной, внутрицерковной логике. Опросы уже практически 20 лет построены так, будто Великий инквизитор в маске социолога выявляет верных и неверных, но в реальности самой Церкви такая ригидность отсутствует. Проблема в том, как социологи понимают «религиозность», какая социологическая модель религии и религиозности стоит за их исследованиями.
Более интересным, соответствующим новейшим процессам мне кажется подход европейской социологии, когда исследователи пытаются выявлять религиозность разных видов, в том числе и «нежесткую». В реальности существуют, например, такие феномены, которые Грейс Дэйви называет «викарная религия», «вера без принадлежности» (“believingwithoutbelonging”): без них нельзя понять ситуацию в секулярной Европе, но они не укладываются в рамки ригидных подходов. С социологической точки зрения у меня не вызывают вопросов православные, не верящие в Бога – они не нонсенс. Таким образом, «церковь» может представать перед нами как институция, как сообщество (воображаемое) и как идеология, то есть набор некоторых представлений и публичных высказываний (официальные документы, публичные заявления церковных спикеров и др.).
Если проблему «что есть Церковь?» расширить, возникает более общий вопрос: «как может определяться религия в постсекулярной ситуации?» Мы можем определить религию как полюс культуры, противоположный полюсу «светского». В контексте современного кризиса секуляристской парадигмы мы видим возвращение религии, и если так описывать ситуацию, то ясно, что полюс религии всегда присутствует, порождает и питает религиозность всех вышеперечисленных форм, что является источником легитимности Церкви, ее самолегитимацией.
Политическая теология в принципе должна быть ответом Церкви на тему «религия и политика». Мы имеем дело с нормальным и одновременно парадоксальным случаем, когда формула «Церковь вне политики», произносимая и со стороны Церкви, и с противоположной стороны, определяет политическую вовлеченность первой. Учитывая вышесказанное, мы должны понимать, что она не является прямой политической силой, а участвует в политике как социальный институт, как воображаемое сообщество, как некая религиозно-общественная идеология. Политическая теология должна быть артикулированием именно непрямого участия Церкви в политике, будучи «вне политики». К сожалению, в современной православной среде такой теологический ответ отсутствует: у нас нет политической теологии. В недавно вышедшем оксфордском справочнике по политической теологии на страницах про православную Церковь есть всего несколько имен: просто чтобы обозначить мнимое присутствие.
Наша ситуация характеризуется тем, что со стороны Церкви государство воспринимается как факт, как неизбежный исторический партнер. В ее официальных высказываниях, в озвученных позициях внутрицерковных групп предлагаются псевдотеологии, которые невозможно никак артикулировать теологически. Находясь между религиозным и светским полюсами и являясь частью целого, Церковь не только принимает участие в политических и культурных конфликтах, но и создает их. Проблема в том, что с ее стороны предлагаются в большинстве своем псевдохолистические системы представлений, которые должны служить для снятия конфликтов и которые нельзя специфицировать на языке теологии.
Конкретные вопросы, связанные с религиями, невозможно не рассматривать в контексте новых реалий, которые маркируются понятиями «постсекулярное общество» (Юрген Хабермас) и «десекуляризация» (Петер Бергер). Их смысл в том, что старая, модерная парадигма, в которой действовала формула «религия и светское общество», в которой религия – частное дело, больше не работает. Религия возвращается в общество в принципиально новых конфигурациях. Примечательно недавнее судебное дело о распятиях, находившихся в государственных школах Италии: Европейский суд по правам человека принял подряд два прямо противоположных решения, в итоге вынеся решение против истца, выступавшего с радикально секуляристских позиций.
Существует два типа важных напряжений, связанных с главной темой семинара: первый –между религией и светским обществом (как конструктом или как секулярной частью общества), второй – между самими религиями, при этом являясь отдельной сложной и серьезной темой (к примеру, сейчас возникают кампании по поводу «христианофобий», «исламофобий», – и они сосуществуют «конфликтно, а не солидарно.
Подытожу: очень важно рассматривать церковно-государственные конфликты в постсекулярном контексте. В настоящий момент в мировой науке разворачивается критика, переосмысление секуляризма, пишется генеалогия «светского», обсуждается, что такое «постсекулярное»… Россия не исключение: буквально каждый год выходят крупные сборники междисциплинарных исследований. Дело актуальное, поскольку в противном случае мы подменим объективную реальность и ее анализ арьергардными боями секуляризма (как в указанном итальянском случае). Термин «десекуляризация» является техническим и не должен пугать: речь идет не о возврате в Средние века, а о переоценке некоторых концептов социальной реальности. Мы пытаемся продвигать этот подход вместе с коллективом и авторами журнала «Государство. Религия. Церковь» (см., в особенности, №2 за 2012 г.).
С.Каспэ:
Наш семинар называется «научно-практическим», и особенно сегодня я надеюсь, что обсуждение будет пульсировать между уровнем концептуализации и уровнем политической практики и даже конъюнктуры. Если получаться не будет, я попытаюсь подлить масла в огонь. Коллега Кырлежев затронул некоторые проблемы, относящиеся к вотчине следующего докладчика; тем более интересно будет услышать его мнение.
Б.Дубин:
Мои возможности говорить на темы, обозначенные в программе семинара, довольно скромны: я полевой социолог, а не богослов, не религиовед и даже не социолог религии. Мы изучаем общественное мнение, опираясь чаще всего не на практические действия, а на мнение людей относительно них, то есть на их внутренние установки. Другое ограничение заключается в том, что мы изучаем «мир», но не «клир»: отношения между ними являются нам только во мнениях «мира».
Трудности и в том, что приходится иметь в виду огромный массив эмпирических данных более чем за 25 лет (собранный сначала ВЦИОМ, потом Левада-Центром), учитывать проблематику, связанную с отношением россиян к государству, власти, к другим людям (вероисповедание, национальная принадлежность). Приходится элиминировать чрезвычайно важное динамическое (хронологическое) измерение: мы можем просто сказать, что когда исследования начинались (1989 г.), неверующих было 2/3 населения, а сегодня уже 80% православных, а атеистов всего 5%. Был бы я клерикалом, я бы заявил о колоссальных успехах церковной пропаганды, причем достигнутых в кратчайшие исторические сроки. На самом же деле здесь скрываются изменения значения демонстрации своей принадлежности к православию, причем произошедшие несколько раз на протяжении указанного времени. Важно не только то, что об этом говорило население, но и то, как об этом говорили влиятельные группы: люди, которые могли сделать свои оценки публичными, прежде всего через СМИ.
Поначалу возможность заявить о том, что ты веруешь, что ты православный, рассматривалась как признак новых свобод, как движение к желанному полноценному, динамическому обществу. Такое отношение в дальнейшем несколько раз менялось, и сейчас в господствующем дискурсе мы видим другие значения православия. О свободах речь не идет, православие практически стало государственной религией, представляющей – своими силами – державу. Большинство населения этот взгляд если не вполне разделяет, то поддерживает. Если говорить о свежих данных, то таких россиян около половины (противоположного мнения придерживаются 18%–20%, а оставшиеся затрудняются ответить). Мы хотим узнать, что реально стоит за цифрами, что это значит.
Как выглядят сегодня отношения государства и церкви с точки зрения большинства взрослого населения? Около половины его считает, что церковь играет большую роль в управлении государством – и одобряет это, полагая, что она заслуженно получает серьезные ресурсы. 15% считают, что государство и РПЦ слишком сблизились, от чего нет пользы ни тем, ни другим. Вместе с тем фигура священнослужителя не внушает пиетета: по уровню уважения к его занятиям она находится в нижней половине списка профессий. Церковь церковью, а вот церковников критиковать можно.
Надо с большим вниманием рассмотреть заявленное отношение к православию, поскольку это только один уровень реальности. Другой ее уровень – доверие к церкви как к одному из институтов: выше только доверие к институту президентской власти. Следующий – отношение к священнику как к социальной роли, символическому авторитету. Особенно интересный уровень – реальные практики участия в жизни церкви. Максимум 20% верующих имеют дома книги Нового Завета, а читают его еще меньше. Я бы не стал, впрочем, уводить разговор в эту сторону. Хочу ограничиться несколькими цифрами – и показать, что мы имеем дело с очень сложным конгломератом верований, страхов, надежд, когда говорим о «религиозности» современных россиян. Треть нынешних «православных» не верит в Бога, 55% «православных» не были в церкви никогда. Более 90% «православных» не принимают никакого участия в деятельности церкви, то есть не являются членами церковной общины.
Цифры важны не по отдельности, но в связи друг с другом: их констелляция сравнима с другими констелляциями в разных странах постсекулярного мира. Так вот, Россия по всем перечисленным показателям находится на последних местах из 42 стран Европы, США и Канады. Во Франции, например, 40% не принимает постоянного участия в деятельности церкви (в России 93%), в США 30%. Бывают в церкви хотя бы раз в месяц 13% православных, что самый низкий показатель по 15 странам Европы плюс США (для сравнения – в Польше около 80%, в Италии более 60%). США: 57% взрослого населения бывают в церкви хотя бы раз в месяц, причем данные по молодежи и старшим поколениям, в отличие от России, не очень отличаются.
Если говорить об отношениях церкви и российского государства, то большая часть населения (примерно 3/4–4/5) понимает, что социальные возможности (ресурсы, помощь, воздействие) выше у государства. Около 80% населения также полагают, что символический авторитет церкви выше (единственное исключение – авторитет первого лица государства). Два эти социальных образования нуждаются друг в друге, но процессы их сближения явно происходят в постсекулярном пространстве. У сегодняшнего государства дефицит символов авторитетности, ему нужны «колокола-купола», которые в этом смысле сильнее, чем «кремлевские звезды». Что касается первого лица (фамилия его не важна), то оно с точки зрения россиян – некоторое место в структуре представлений о социальной реальности, которое верховно и несравнимо ни с кем и ни с чем. У него сосредоточена вся власть и нет ответственности ни перед кем – именно и только такая власть заслуживает имени «верховной».
Если мы посмотрим динамику сомнений в своей принадлежности к православию, то увидим два пика. Первый приходится на период с 1991–1992 по 1995 г., когда все большая часть населения переставала верить в первых лиц и прокламируемую ими картину реальности, настоящего, будущего, реформ и т.д. Второй пик – это период с 1998–1999 по 2008 г., который отмечен стремлением как бы присовокупиться к первому лицу, к большому целому государства. То есть «православность» находится в некотором обратном резонансе с «государственностью».
Из вышесказанного я вывожу ряд положений:
1. Какие бы цифры мы ни имели, надо понимать, что меняется реальность, стоящая за ними, меняется коллективная идентификация, представления о государстве и первых лицах, – соответственно, меняется и характер групп, практикующих определенный образ их понимания.
2. Отношение россиян к символам церкви опосредовано отношением к государству и его первому лицу, – сложным образом, в зависимости от того, кто именно является первым лицом.
3. Для населения, именующего себя «православным», наиболее важны два значения религии: религия как представление о смысле жизни и, самое главное, как способ легче переносить эту жизнь, в том числе и других людей. Поскольку религия в этом смысле является средством адаптации к окружающей реальности, логично, что мы пребываем до сих пор в формате основного профиля жизни 1990-х–2000-х гг.: в адаптирующемся, перестраивающемся обществе, характеризующемся пассивностью большинства населения (надо «перетерпеть», «приспособиться»). «Православие» работает как самая общая идентификация на макросоциальном уровне. В этом контексте важны два момента: а) символы церкви имеют позитивный смысл; б) механизм присоединения к большинству работает все сильнее, и общность адаптирующихся и верующих по своему характеру не стигматизирующая, не дискриминируемая. Символы православной церкви сегодня работают на сплочение, а не на разъединение, воспринимаются не в стигматизирующем, а в позитивном плане.
4. Поэтому церковь, понимаемая как государство, и государство, понимаемое как церковь, важны в том плане, что власть оказывается лишенной репрессивных значений. Символика державы, с одной стороны, воплощает в себе высшие представления о власти, с другой стороны, лишена репрессирующей силы. Наконец-то российская держава, представленная русской православной церковью, выглядит привлекательно для большинства.
С.Каспэ:
И вот в этом концептуальном контексте и в этой социальной среде в последние несколько месяцев происходит политическая буря. О ней хочется и поговорить, связав возникшие уровни анализа воедино. Подолью в огонь обещанного масла.
Есть такое мнение, что запустили нынешний кризис в отношениях властей государственной и церковной два социальных факта, причем случившихся еще до акции PussyRiot. Первый, спонтанный и абсолютно властью несанкционированный, – история с поясом Богородицы и массовым стоянием к нему. Власть очень нервно относится к нестимулированным массовым реакциям и в любой из них – возможно, справедливо – видит опасность для себя. Мы ведь знаем, почему Манежная площадь стала такой неудобной для проведения массовых акций, правда? Кроме того, некоторые региональные политические лидеры и элиты стали прилагать большие усилия к тому, чтобы заполучить пояс Богородицы к себе – опять же без какой-либо команды сверху, а исключительно реагируя на чаяния масс. Столь явное обозначение негосударственного центра притяжения и лояльности не могло не смутить функционеров центра государственного.
Второй социальный факт касается патриарха Кирилла. Ходят упорные слухи – подчеркиваю, слухи, и я никак не комментирую степень их правдивости, – что тот начал довольно прямо заявлять о своих президентских амбициях. И этот сценарий не столь уж абсурден, как может показаться. Даже если не вспоминать о первых Романовых и «великом государе» патриархе Филарете, то был ведь прецедент, созданный архиепископом Макариосом III, который в 1950 г. одновременно с епископской хиротонией стал еще и этнархом кипрской греческой общины, возглавил Энозис (движение за независимость), после его победы в 1959 г. был избран первым президентом Республики Кипр и успешно совмещал высшие церковные и государственные статусы до самой своей кончины в 1977 г. В этой истории интересен прежде всего эпизод, относящийся к 1972-1973 гг., когда трое митрополитов, отчаявшись добиться оставления Макариосом президентского поста (к чему они стремились по вполне политическим причинам), попытались лишить его архиепископского сана, указывая на недопустимость такого смешения церковного и мирского служений. Ответ на их демарш дал Великий и Верховный Синод, прошедший под председательством патриарха Александрийского Николая VI (при участии патриарха Антиохийского Илии IV, а также представителей Иерусалимского патриархата), который единодушно признал сложившуюся на Кипре ситуацию полностью каноничной. Более того, с Макариосом тогда солидаризировалась, причем еще до созыва Синода, и Русская Православная Церковь – в специальном заявлении патриарха Пимена указывалось, что «мы имеем ряд подобных примеров совмещения в одном лице церковной и гражданской власти в истории и других Православных Церквей», и выражалась полная поддержка пребыванию «национального героя Кипра и Архиепископа на высоком посту Президента Республики». Само собой, трудно вообразить, что этот документ мог появиться без санкции Политбюро ЦК КПСС (вполне вероятно, что и по его инициативе), однако так или иначе принципиальная позиция РПЦ по столь деликатному вопросу была сформулирована четко и с тех пор эксплицитным образом не пересматривалась. Каким именно образом она может актуализироваться в современной России, домыслить не так уж трудно. И даже малейший намек на такую актуализацию, безотносительно его правдивости, способен вызвать бурную реакцию.
Моя гипотеза состоит в том, что события, начавшие разворачиваться на уровне политической конъюнктуры, затем вышли и на уровень политической теологии. Ее, может быть, и нет в России как дисциплины, но она есть как реальность.
А.Макаркин:
Сразу скажу, что в президентские амбиции Кирилла я не верю. Мне доводилось слышать множество конспирологических версий, вплоть до той, что первый митинг на Болотной организовал сам Д.Медведев. Думаю, слухи, что патриарх собрался в президенты, из этого же ряда. Но прецеденты действительно имели место: и упомянутый случай на Кипре, и регентство Дамаскина по окончании Второй мировой войны в Греции, и экзотичный случай в Румынии 1938–1939 гг., когда патриарх был главой правительства (хоть и при монархическом режиме).
Дело в том, что патриарх – реалистически мыслящая политическая фигура, понимающая пределы возможного. Но именно в своей трактовке, которая, вероятно, расходится с трактовкой государственной власти. Власть хочет, чтобы церковь была ее клиентом, как в советское время, когда та выезжала за границу и выступала за права человека, боролась против «агрессии» и «американских поджигателей войны». Государство хотело бы максимально усилить свой контроль над церковными институтами, в том числе над кадровой политикой внутри церкви, над отношениями церковных руководителей и региональных глав, над ее экономической деятельностью. Периодически возникает вопрос о создании специального государственного органа, который занимался бы церковью. Церковь всегда оппонирует подобным инициативам, потому что она хочет быть партнером государства по схеме, реализованной в XVII веке. Тогда у нас было два великих государя: Алексей Михайлович и ПатриархНикон, бывший фактическим идеологом внешней политики России, направленной на экспансию в украинские земли, на продвижение на юг (в сторону Константинополя), на превращение Московского царства во всемирный центр.
Я думаю, на самом деле патриарх хотел бы для себя примерно такой роли. Не верховного главнокомандующего, не ответственности за экономику, а, скорее, роли того идеолога, кто благословляет (или не благословляет) верховного правителя. Несмотря на то что Россией фактически управляет один человек, он формально сменяем, а вот патриарх – нет (его можно сместить только теоретически, в очень редких случаях). Роль патриарха как идеолога в такой схеме могла бы стать не менее серьезной, чем роль президента, даже если бы он не вмешивался не в свои сферы.
Стремление к партнерским отношениям подобного рода (как было сказано, «симфоническим»), возможно, и привело к тому, что происходит сейчас: государство, беря церковь под защиту, делает ее одновременно зависимой от себя. Более того, фактически на нее возлагается и значительная доля ответственности за происходящее: церковь выглядит как сила, вступившая в конфликт с большей частью интеллигенции. И в каждый следующий конфликтный момент она будет снова обращаться к государству – но уже не в качестве идеолога, а признавая свою зависимость.
Другая причина коренится в позиции церкви по отношению к процессам и реалиям современного мира. Проблема поставлена отнюдь не в 1990-е или 1970-е гг., она возникла значительно раньше. Как найти себя в изменившихся условиях? Не только россияне, как уже говорилось, адаптируются, – но и церковь также проходит через адаптацию. В 1960-е – 1970-е внутри нее было выработано два подхода: первый представлял ленинградский митрополитНикодим. Он говорил о необходимости максимального приспособления к современным условиям, пытаясь протянуть руку советской власти (сохранение только основ веры, экуменическое движение, активный диалог с марксистами, интерес к социальной тематике, отказ от всего устаревшего). Второй подход был связан с Алексием I и Пименом. Церковь, по их мысли, также протягивала руку власти, – но как хранительница патриотических традиций, союзник государства на всех этапах его истории, как безусловная часть русской идентичности.
Если мы посмотрим на происходившее в период 1970-х – 1980-х гг. и на происходящее сейчас, то сделаем вывод, что еще в советское время восторжествовала вторая концепция. Можно вспомнить празднование 600-летия Куликовской битвы, когда свои роли были отведены и церкви, и государственным функционерам. Сейчас возникло отчасти парадоксальное положение дел: по пути, связанному с охранением патриотических традиций, идет нынешний патриарх Кирилл, известный как ближайший ученик Никодима. Я считаю, что он прагматичен и понимает ситуацию, когда государством сделана ставка на национально-государственную идентичность и патриотизм. С другой стороны, речь здесь идет и о более глубоких процессах. Никодим ориентировался на опыт II Ватиканского Собора. Его итоги в настоящее время оцениваются церковью как двойственные: опыт адаптации к новым реалиям, опыт открытости, реформ богослужения и проч. показал, что количество верующих в передовых странах никак не увеличилось. Сейчас даже приходится говорить о практически «новой христианизации» Европы (по словам папы Бенедикта XVI), и руководству РПЦ не хочется идти по столь опасному пути. Таким образом, на нынешней ситуации сказалось и поведение государства, желающего ослабить церковь, и поведение самой церкви, стремящейся сопротивляться секуляризации.
С.Каспэ:
Господа, вспомните, что в названии семинара были слова «причины и последствия кризиса»! Мы разнообразно поговорили о причинах, теперь давайте предельно коротко выскажемся и о том, что из всего этого может последовать. Попытки сбить напряжение слабы и нерезультативны, поэтому ситуация будет развиваться дальше. Давайте поделимся гипотезами – в какую сторону?
А.Музыкантский:
Я бы попытался для начала переформулировать определение понятия «церковно-государственный кризис». Это кризис в отношениях внутри общества, между некоторой его частью и церковью. В чем его причина? Роль церкви исторически заключалась в том, что она наделяла царя легитимностью, освящала его дела. При переходе к модерну у легитимности власти появились другие основы: например, избирательное право, и Россия также должна была пойти по этому пути. Но в СССР легитимность власти стала базироваться не на всеобщих выборах (и даже не на божественной санкции), партия монополизировала в своих руках право на истину. В постсоветской России ситуация еще более сложная: легитимирующая роль выборов сейчас стремительно уменьшается (вспомним выборы декабря-марта 2012 г.). Возможно, дело идет к тому, что основа легитимности будет снова базироваться на санкциях сильного религиозного института: история любит подобные шутки.
Я думаю, что еще одно событие (кроме упомянутых коллегой Каспэ) сыграло в обсуждаемых процессах роль спускового механизма: встреча Путина (на тот момент кандидата в президенты) в феврале 2012 г. с лидерами конфессий, где патриарх Кирилл заявил, что церковь поддерживает на выборах именно его. «Церковь вне политики» – и тут такое абсолютно политическое заявление! Уже после такого поворота событий возник вопрос, что такое церковь в современном обществе, – и возникло дело PussyRiot как попытка прощупать эту проблемную точку. Сейчас церковь ищет защиты от различных нападок, взамен вынужденно легитимируя власть. Но разлад церкви и власти, полагаю, будет усиливаться.
Н.Уварова:
Моя точка зрения – точка зрения журналиста. Я знаю, что в России свобода прессы относительна, но с определенного момента вдруг замечаю, что повсюду появились критики патриарха. Это произошло после того, как тот встретился с Путиным и выразил ему свою поддержку. Есть впечатление, что все, что говорится против патриарха, говорится потому, что Путин на самом деле не возражает. Есть впечатление, что существует какой-то сговор.
А.Берелович:
Почему вы думаете, что имеет место какой-то кризис? Мне кажется, что между государством и церковью после ухода советской власти происходила своего рода взаимная притирка, а сейчас установился более или менее устойчивый баланс. Эту систему не устраивает явно светская форма государства (как во Франции по закону 1905 г.): вспомним высказывания о собственной религиозности Ельцина, роль патриарха на первой инаугурации нынешнего президента… Конкретные шаги государства показывают, что светскость для него важна примерно в той же степени, что и демократия, выборы и т.д. Долгие поиски идеологии режима привели к тому, что весьма напоминает уваровскую триаду. Мне кажется, что в такой системе провозглашение приверженности к православию играет такую же роль, как ранее – приверженность к коммунизму.
А.Кырлежев:
«Беспартийные коммунисты» …
А.Берелович:
Если иметь в виду более общую перспективу и динамику, то можно сделать вывод, что параллельно шли постепенные процессы построения «недемократической» и «несветской» систем власти.
Л.Авилова:
Проблема очень актуальна: потеря доверия к церкви означатет институциональный кризис власти. Мы замечаем усиление критики церковной иерархии, в свою очередь, создающее негативный образ власти. Если мы исходим из институционального подхода, получается, что церковь как институт утрачивает свою стабильность, поскольку ухудшение ее репутации влияет и на ту власть, на которую сама церковь опирается. Негативная информация подтачивает сакральность власти как таковой.
Институт, призванный заполнять духовный вакуум (не обязательно идеологией, но хотя бы трансляцией культурных ценностей), больше не работает. Его атрибутивное восприятие переходит в атрибутивное поведение, характеризующееся формальным следованием канонам. Такой образ действий не позволяет человеку обрести комфортное духовное состояние. Между тем задача церкви состоит в том, чтобы помочь обществу преодолеть кризис ценностей, чтобы формулировать их в ситуации культурного вакуума. На мой взгляд, этот институциональный кризис будет продолжаться, и очень трудно себе представить, что церковные иерархи примут какие-либо действия, направленные на изменение отношения к себе и к церкви в целом.
Е.Новичихин:
Кризис есть, и он есть внутри самой церкви: именно внутри нее существует много недовольных внутрицерковной политикой патриарха. Кроме того, церковь за все это время не смогла религиозно социализировать общество. Религия не является средством социальной адаптации, поскольку активных верующих только 5%. Основная проблема в том, что церковь не знает, кто ее паства: как молодой человек, я вижу, что в том числе и на мой социальный класс она реагирует… странно.
Д.Войнов:
Церковь существует уже пару тысяч лет, и все это время «попов» особенно не уважали. Кризис – не в отношениях государства и церкви, а именно внутри общества. Церковь изо всех сил стремится легитимировать свое участие в современной системе распределения прибавочного продукта, стать соэксплуататором. Насколько нынешние элиты ей позволят, настолько она и будет участвовать в этом процессе.
Вопрос в том, как долго может просуществовать наш периферийный капитализм. Не будет ли он похоронен как таковой и не придется ли все начинать с нуля? Это зависит от развития мирового экономического кризиса. Отсутствие конкуренции на уровнях политических элит, экономики, религии и идеологии порождает отсутствие новых идей. В 1990-е гг. именно церковь первой начала бороться за запрет «иностранных влияний» (в форме борьбы с сектантством) – и она добилась этого! Проблема в том, насколько внешний фактор будет влиять на положение дел внутри страны, ведь гнить самостоятельно мы можем еще долго.
Л.Борусяк:
Если бы сейчас был не конец сентября 2012 г., то я согласилась бы практически со всеми словами коллеги Береловича. Происходившее ранее шло именно по описанному им сценарию – до того, как начался политический кризис, который в результате повлиял и на отношение населения к церкви. После кризиса власти значительно возросло количество нападок на церковь, поскольку они в масовом восприятии составляют единый комплекс.
Интересно, что в России церковь поддерживала свой высокий авторитет именно как символическая сила, образ которой создавался не ей самой. Население не осведомлено о происходящих внутри церкви процессах, религиозные передачи не смотрит, кроме как в праздники Рождества и Пасхи. Да, люди видят, как церковь провожает на Олимпиаду сборную России вместе с главным руководителем страны – и именно это подается как источник формирования ее позитивной символики. По моему мнению, ошибочно.
Когда митрополит Кирилл представлял победителя конкурса «Имя России» Александра Невского, то выражал, мне кажется, очень грамотную позицию, в том числе в контексте обсуждаемого нами кризиса. Он представил церковь как медиума государственной истории, находившегося в союзе с властью даже в трудные, как и сейчас, времена, когда кризис задевает через государство саму церковь.
А.Кырлежев:
Коллега Макаркин очень верно сказал относительно символической сопричастности Церкви и государства. Давайте вспомним следующее: в постсоветское время высшее военное командование разделилось на тех, кто нормально принял дореволюционную картинку «батюшка с кадилом – солдаты – офицеры», и на тех, кто считал, что поп «в золотых одеждах» не может и не должен находиться в военном пространстве (каковое мнение впоследствии разделила значительная часть военных). Я хочу сказать на примере этих образов, что за Церковью стоит не идеология, поскольку содержательных посюсторонних ценностей ею не предлагается, но скорее образ мира, самоощущение людей.
Вместе с этим, конечно, отношения Церкви и государства организованы в форме симбиоза. Самое неприятное, что исторически действительно происходили «притирки»: с одной стороны, defacto их можно прочитать как очень странный симбиоз, с другой стороны, Церковь никогда не думала, что не контролирует в достаточной степени ситуацию. Поэтому она оказывается в итоге реакционной силой, связанной с Поклонной горой. Возможно, это повод к началу внутренней и внешней дискуссии о ценностях, о смыслах, потому что до этого велись несодержательные разговоры.
Б.Дубин:
Я не прогнозист и не футуролог. Тем не менее попробую обострить ситуацию: мне кажется, что происходящее с публичным образом патриарха в последние месяцы сопоставимо с тем, что делал некогда Путин в отношении Медведева. Он неоднозначно и грубо давал понять: после меня второго нет и не будет.
Кризисные явления возникли как реакция одной из властных группировок на сближение в публичном, медийном поле образов церкви и власти. Массы также определенным образом реагируют на происходящее: в последнюю пару лет мы видим не только падение рейтинга церкви и власти в общем виде, но и падение рейтинга первых лиц. Их сближение в нынешнем виде может нанести им взаимный вред, и люди это каким-то образом чувствуют, поскольку привыкли выживать и адаптироваться.
Гораздо более важно, что на процесс сближения шла цепочка реакций со стороны общества: выставки Ю.Самодурова и А.Ерофеева, PussyRiot, Femen... Кто в них действующее лицо? Фракции образованного слоя, пытающиеся защитить саму идею общества как многообразия, дискуссии, динамики! В подобных социальных процессах последнего года происходили мучительные попытки как-то обозначить «общество».
Будет меняться характер отношений между действующими группами и теми, кто представляет Россию как целое (государство, церковь и т.д.). Если мы посмотрим на историю XX века, то увидим, что она строилась вокруг отношений двух фракций образованного слоя: бюрократии и интеллигентов. Сейчас возникла новая фракция образованного слоя, которая уже не интеллигенция. Россия состоит на 90% из периферии, но узел проблемы именно на обозначенном центральном пятачке, потому что он представляет хоть какую-то альтернативу существующему порядку.
А.Макаркин:
В длительной перспективе мы, как представляется, придем к синтезу: по французскому образцу или по какому-то еще. Вопрос в издержках. Франция шла к устойчивому состоянию довольно долго, вырулив из череды весьма некомфортных процессов (конфискация церковной собственности, дело Дрейфуса, дело против католических школ и т.д.). Нас ожидает довольно сложный процесс, в котором роль активных слоев общества будет увеличиваться. Но, с другой стороны, в обществе отсутствует сила, которая хотела бы свести роль церкви вообще к нулю, как это было в начале XX века. От катастрофических вариантов развития событий мы гарантированы: православные были и на Болотной, и на Поклонной.
Если мы выйдем за рамки активного слоя, то увидим, что отношение общества к церкви стабильно. По данным июньского опроса ВЦИОМ 2012 г., со времени которого, впрочем, тоже произошла масса событий, «ничего не изменилось» (78%). Общественное большинство исходит из простых позиций: церковь – значительная часть истории, с церковью желательно не конфликтовать, так как ее главная функция «спасение человеческих душ». Но вместе с этим стойко и желание держаться от церкви на определенной дистанции, поскольку в ней видят только определенный фрагмент жизни человека, но не большую ее часть. Эти процессы свидетельствуют о том, что: 1) общество значительно более секулярно, чем свидетельствуют некоторые опросы; 2) несмотря на эту секулярность, оно не является агрессивно-секулярным. Почти каждый человек хочет как-то выстроить свои отношения с церковью. Эта тенденция, вероятнее всего, сохранится на долгосрочную перспективу.
А.Кырлежев:
Маленькая реплика. В этом году – впервые за 25 лет – у нас появились карикатуры на попов! Кризис возвращает норму: будут карикатуры на попов, но и будет нечто им полярное.
С.Каспэ:
Почему подобные события мы называем «кризисом»? Это греческое слово означает такую перемену состояния системы или, лучше сказать, организма, после которой он склоняется либо в сторону выздоровления, либо наоборот. Сейчас Колоссальным образом усиливается напряжение на всех вершинах треугольника: и в самой церкви, и в обществе, и в государстве (которое не есть только элиты). Ни одна из сторон взаимодействия не останется прежней; теперь «ничто не будет таким, как раньше».
Отчет подготовил Ю.В.Руднев