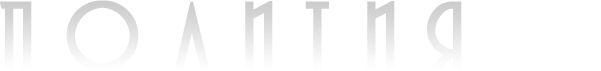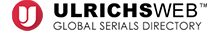№ 3, 2023
В статье на материале серии экспедиций в северные районы Иркутской области рассматривается ситуация формирования особого рода квазиполитических акторов, обозначенных в тексте термином «таежный баронет». Эти акторы возникают в условиях, когда вследствие «оптимизации» структур, ответственных за сбор информации о социальном пространстве, последнее, с точки зрения власти, становится «пустым». Наряду с массивом поддающихся считыванию маркеров наполненного пространства сокращается и в пределе сходит на нет набор операторов, способных их считывать. В результате власть оказывается слепой, лишенной возможности выполнять управленческие функции. Между тем, став невидимым для властного взора, данное пространство сохраняет себя в качестве административно и политически заданной территории, на которой представители местной власти вынуждены осуществлять предписанную им и легально закрепленную за ними деятельность. В силу «слепоты» власти эта деятельность неизбежно превращается в имитацию. Проблема, однако, в том, что в «пустом» в восприятии власти пространстве сохраняются жители, для которых это пространство остается и социальным, и «наполненным» и которые продолжают ждать от властных институций предоставления некоторого объема общественных благ. Соответственно, возникает конфликт, проявляющийся в жалобах, обращениях в правоохранительные органы и вышестоящие по отношению к местной власти инстанции, которые ставят под удар благостную картину, рисуемую в отчетах. Необходимость как-то нейтрализовать эту угрозу и порождает потребность в агенте, не связанном проистекающими из властного взгляда ограничениями и способном ориентироваться на положение «здесь и сейчас», не нуждаясь во всеобщих нормативах. Он не просто берет на себя ряд функций местной власти, но и выступает универсальным медиатором между «пустым» и «наполненным» пространством, между локальным сообществом и государственной структурой.
DOI: 10.30570/2078-5089-2023-110-3-23-46
Страницы: 23-46
№ 2, 2022
На краю государства: политическое оформление периферии власти
Статья посвящена анализу особой политической формы, возникающей в «пустом пространстве» на «краю государства», где властные акторы существуют удаленно, за границами «пустоты», но могут быть актуализированы в ней. Такую политическую форму авторы обозначают термином «периферия власти». «Пустое пространство», как показано в статье, это не вакуум, однако в нем нет того, что ожидает увидеть наблюдатель (в данном случае власть), того, что он может прочесть и осмыслить в качестве некоей сущности. Отсутствие ожидаемых объектов, акторов и практик и делает пространство «пустым».
В работе верифицируется гипотеза о том, что, являясь «пустым» для наблюдателя, такое пространство заселено и властно оформлено. Эмпирической основой исследования выступают результаты двух экспедиций в верховья р. Лены. На этой территории нет поселенческой структуры, не ведется легальной хозяйственной деятельности, минимально и число зарегистрированных жителей. Ближайшие представители власти (полиция, природоохрана, муниципальная власть и т.д.) находятся на границах территории, а расстояние до ближайшего крупного города (Иркутска) составляет 500— 700 км. Тем не менее в ходе экспедиции там было обнаружено достаточно многочисленное сообщество со своей иерархией, устойчивыми формами коммуникации, легализации и мобилизации удаленной власти в своих интересах. Пребывание членов этого сообщества на «пустой территории» лишено хозяйственного смысла. Зарегистрированы они в других местах (райцентрах или иных городах области, включая региональную столицу), будучи более или менее успешными горожанами. Но город остается для них не более чем источником ресурсов (материальных, финансовых и т.д.). Живут же они именно в «пустом пространстве». В нем формируются социальные сети, выстраиваются статусы и коммуникация, которая может быть повернута и в пространство власти.
Полученный авторами материал дает основания предположить, что речь идет не о случайном кейсе, а о некоем более общем процессе разделения места для зарабатывания денег и места для жизни. По их заключению, при сохранении сложившихся на сегодняшний день тенденций зафиксированное ими «пространство выхода» будет расширяться, образуя все новые формы «пустоты».
DOI: 10.30570/2078-5089-2022-105-2-71-101
Страницы: 71-101
№ 2, 2021
Принуждение к enforcement’у, или Государство в поисках силового оператора
В статье рассматривается специфическая ситуация, складывающаяся в России и связанная с размыванием монополии государства на легитимное насилие. Отталкиваясь от на первый взгляд заурядного частного события, выглядящего как единичный сбой в системе, авторы показывают, что речь идет об одной из значимых практик власти, суть которой обозначается ими как «принуждение к enforcement’у», и анализируют ее истоки и возможные импликации.
В условиях гигантской и значительно различающейся по уровню социально-экономического развития страны принуждение к исполнению правил сопряжено с издержками, превышающими объем получаемых в результате благ. В связи с этим государство ограничивает свои функции энфорсера контролем над совокупностью «кормящих» отраслей, практически не посягая на остальное пространство. Однако в современных реалиях эта тактика перестает работать. Поскольку «кормящие» отрасли уже не в состоянии удовлетворить потребности увеличившегося государства, оно начинает распространять свой контроль на все новые социальные и хозяйственные сферы. Кардинальное расширение пространства применения инструментов принуждения и усложнение процедур, связанных с необходимостью контроля над самими этими инструментами, делают их все более дорогостоящими. Соответственно, ставится задача по их удешевлению — при сохранении, а то и возрастании объема работы. Сам факт постановки такой заведомо невыполнимой задачи заставляет соответствующие структуры искать нестандартные решения, находящиеся за пределами правил, введенных государством. Созданные в качестве «машин принуждения», они обретают собственный разум и интересы, а с ними и субъектность. Они уже не принуждают к исполнению правил, но начинают их формировать, пытаясь переложить на граждан выполнение своих функций и тем самым подталкивая их к поиску новых энфорсеров, уже совсем не связанных с государством.
DOI: 10.30570/2078-5089-2021-101-2-47-67
Страницы: 47-67
№ 2, 2020
«Острова в тайге»: формы (ре)освоения «пустого пространства» на востоке России
Одним из относительно новых феноменов, актуализировавшихся в последние десятилетия, является борьба за пространство, переместившаяся из области международных отношений и геополитики во внутриполитическую сферу. Особенно ярко данная тенденция проявляется в России. При этом сама борьба за пространство протекает в различных формах, детерминированных спецификой конкретной территории. Если в мегаполисах это прежде всего митинги и иные коллективные политические действия, то в относительно малонаселенных северных и восточных регионах страны она чаще принимает форму дистанцирования от государства, ухода.
В принципе, подобный тип социального поведения уже не раз попадал в поле зрения исследователей. Однако, как правило, речь шла о маргинальных социальных группах, не стремящихся к самопрезентации. В настоящей статье рассматривается иная ситуация, когда дистанцирование оказывается не вынужденной мерой, а сознательным выбором, порождающим новый тип дискурса по поводу социального пространства, новый способ его осмысления.
В ходе инициативных полевых исследований в Иркутской области и Хабаровском крае Л.Бляхер и К.Григоричев обнаружили примеры ситуации, когда, вопреки распространенному мнению, удаленность и изолированность становятся не факторами сжатия освоенного пространства, а механизмом повторного освоения и присвоения «пустых» земель. Проведенный ими анализ генезиса и структуры особого типа поселений, возникших в последнее десятилетие в отдаленных районах востока России, их внутренней стратификации и особенностей коммуникации с «большим миром», свидетельствует о появлении нового способа заполнения социального пространства смыслами, возможного исключительно вне властного регулирования и масштабных экономических проектов. И хотя выявленных и исследованных авторами кейсов слишком мало для обобщающих выводов, они сигнализируют о скрытых процессах (ре)освоения и переопределения «пустых земель» в восточной части страны.
DOI: 10.30570/2078-5089-2020-97-2-158-181
Страницы: 158-181
№ 1, 2020
В статье описывается и эксплицируется политический смысл социальных практик транстерриториальных сообществ, складывающихся из бывших дальневосточников, переехавших в европейскую часть страны, и жителей Дальнего Востока. Рабочая гипотеза исследования заключается в том, что, мигрируя, выходцы из восточных регионов России не порывают полностью с этими регионами, а живут как бы «поверх границ», поддерживая устойчивые связи с сообществами как в регионах исхода, так и в регионах вселения. Предполагается, что специфика восточных территорий России определяется сочетанием масштабных трансрегиональных и транснациональных миграций с интенсивным внутрирегиональным движением населения. Перманентный характер миграций придает территориальному сообществу качество проточной общности, для которой миграции являются естественной формой существования. Поскольку бóльшая часть населения региона представляет собой относительных новоселов (одно-два поколения), связи с местом исхода — как правило, в западной части страны — сохраняются и поддерживаются. Это создает условия для сравнительно безболезненного перемещения (возвращения) в западном направлении. Сопутствующая «проточному» состоянию двойная идентичность, активные контакты с принимающим и исходным сообществами, использование ресурсов обеих сторон позволяют предложить в качестве аналитической рамки теорию трансмиграции. Эта теория, традиционно применяемая при анализе транснациональных миграционных процессов, может оказаться весьма продуктивной и при изучении внутрироссийской миграции, давая ключ к пониманию причин и механизмов высокой интенсивности ее «западного дрейфа» и открывая возможности для выявления специфики организации сообществ на востоке России, а также репертуара практик, определяющих современный миграционный (и не только миграционный) ландшафт страны.
DOI: 10.30570/2078-5089-2020-96-1-74-97
Страницы: 74-97
№ 1, 2015
Вглядываясь в зеркала: смысловые трансформации образа Китая в российском социуме
На примере российско-китайского приграничья Л.Бляхер и К.Григоричев анализируют трансформации, происходящие в структуре «образа границы» и «образа другого» при трансляции этих образов в пространства, достаточно далеко отстоящие от зоны соприкосновения двух государств. В статье показано, как российско-китайское приграничье постепенно прорастает друг в друга, сближается на уровне поведенческих матриц и социальных сетей, вызывая к жизни феномены «русского Китая» и «китайской России». При этом для жителей российских регионов, отдаленных от приграничья, именно оно выступает «подлинным» Китаем, и в зависимости особенностей территории, «отражающей» этот «Китай», его образ приобретает новые, подчас неожиданные черты.
№ 1, 2013
В статье предпринята попытка обозначить контуры новой системы отношений между двумя уровнями властных институтов, действующих в сельском районе, а также между этими институтами и местным сообществом в условиях неинституционализированного пространства иркутских пригородов. В центре внимания автора находятся изменения в положении администраций сельских поселений (первый уровень) и муниципального района (второй уровень) и характере их взаимодействия с формирующимся сообществом пригорода, отражающие специфику социального пространства, складывающегося на стыке городского и сельского миров. Эмпирическую базу исследования составляет комплекс полуструктурированных интервью, собранных в пригородах Иркутской агломерации в 2009–2012 гг.
№ 4, 2011
Мигранты и миграционная политика в постсоветской Сибири и на Дальнем Востоке
На основе анализа ситуации в постсоветской Сибири и на Дальнем Востоке авторы показывают, что расхождения в миграционной политике, проводимой на разных уровнях, не в последнюю очередь обусловлены тем, что эти уровни ориентируются на разные общественные страхи и общественные интересы. Согласно их заключению, de facto в регионах сегодня реализуется отнюдь не федеральная миграционная политика и даже не более или менее консолидированная региональная система мер регулирования миграции. Едва ли не каждый из акторов проводит свою «миграционную политику», выстраиваемую исходя из собственных частных интересов. В итоге образуется некая сумма слабо связанных между собой «миграционных политик», лишь номинально вписывающихся в прокрустово ложе федерального законодательства. Такое положение вещей позволяет создать иллюзию пребывания в правовом поле, фактически выталкивая соответствующую деятельность в сферу неформальных практик.
Рассылка
Григоричев К.В.
Главная страница ~ Авторский указатель ~ Григоричев К.В.